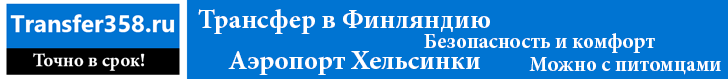Ушли, чтобы остаться
Ушли, чтобы остаться

В новую книгу волгоградского писателя вошли рассказы о современности, документальные повести, литературные этюды об исторических личностях прошлого России, малоизвестные страницы их деятельности на благо или во вред Отчизне, воспоминания автора о встречах с замечательными деятелями родной литературы, повествования о кануне и финале Великой Отечественной войны. Среди персонажей книги А. Блок, С. Камо, М. Лермонтов, Ф. Каплан, Илиодор и Григорий Распутин, А. Гитлер с его окружением, Б. Окуджава, М. Шолохов, М. Светлов, К. Чуковский, А. Вертинский, В. Пикуль, К. Паустовский, В. Шукшин.
Оглавление
- От рассвета до рассвета. Рассказы повесть
Приведённый ознакомительный фрагмент книги Ушли, чтобы остаться предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.
© Мишаткин Ю. И., 2009
© Волгоградская областная писательская организация, 2009
© ГУ «Издатель», 2009
От рассвета до рассвета
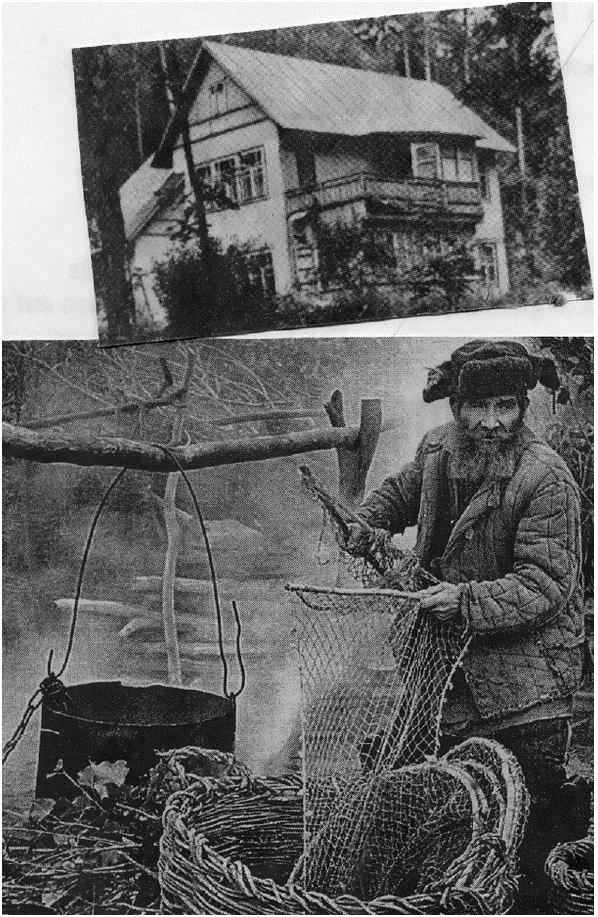
В хутор Артановский на границе Волгоградской и Ростовской областей я приехал в душном июле, когда стояло безветренное пекло.
На берегу Хопра в глинистой луже лежал, развалясь и блаженствуя, похрюкивал от удовольствия пятнистый боров. Неподалеку плескались мальчишки: чтоб не попасть в речную быстрину, пацанята барахтались у берега, шлепали по воде ладонями, дразнились.
Хуторское начальство отсутствовало. На крыльце правления сидел и чадил сигаретой казак в странном в жару грубошерстном пиджаке.
— Сидайте рядком, вместе ждать будем. Председатель еще утром в станицу умотал, как не обязанный, не доложил зачем. Случаем, не лекцию приехали читать? В прошлом месяце ждали лектора, но не приехал.
— Не умею читать лекции, — признался я.
— А чему обучены, какое имеете призвание?
— Художник, приехал рисовать ваш край.
Хуторянин покосился на мой этюдник.
— Верно поступили, выбрав Прихоперье, что ни дерево иль полянка — сказка. Только одни в лес не ходите — новичку раз плюнуть заблудиться, берите в провожатые Петра Круглова, — за бесплатно и с огромным удовольствием сведет.
Дом знатока лесных троп был неухоженным, точно в нем давно никто не жил: побуревшая соломенная крыша, которую изрядно потрепали ветры и галки, покосившееся крыльцо, неподметенные дорожки, сорванная ставня. Это было тем более странно, что хозяин — мужчина.
— Не до уюта Петру, печаль душу бередит, — догадавшись о чем я подумал, сказал хуторянин: — Лучший в районе плотник, золотые руки, все, кажись, умеет, коль надо чего поправить, сбить, к нему бежим. А до своего дома наплевать, раз остался холостым.
Не заходя во двор, казак позвал:
— Петр, выдь на минутку!
Скрипнула дверь, появился парень в выгоревшей солдатской гимнастерке, неподпоясанный, в галифе без сапог, в грубошерстных домашней вязки носках.
— В лес, видишь ли, приезжему надо, кому как не тебе сводить.
При слове «лес» на лице Петра проступили настороженность, недоверчивость.
— Проходьте, — пригласил хозяин неказистого дома.
— Пес у тебя дюже злющий, не приведи Господи цапнет, — заметил казак.
При упоминании собаки из-под крыльца высунул голову с оскалом острых зубов и зарычал вислоухий пес непонятной породы с обрубленным хвостом.
— Цыц, Мармотка! — приказал Петр, и собака послушно юркнула обратно. — В дом не приглашаю, там нынче дыхнуть нечем, хуже, чем во дворе. Отдыхайте, в лес поведу, как спадет теплынь.
Сарай, куда я вошел, был наполнен пряным сеном. Я прилег и почувствовал, как устал от тряской езды в кузове грузовика, как измаяла жара…
Проснулся от чьего-то вздоха. Привстал и увидел казачку неопределенных лет в туго затянутой на затылке косынке, которая скрывала лоб.
— Извините, что разбудила: кваску принесла, в подполе выстоян.
Я поблагодарил, собрался заплатить за угощение, но казачка наотрез отказалась от денег, напомнила, что я у нее в гостях. Наблюдая, как я припал к обливному кувшину, спросила:
— Надолго с сыном уходите?
— Самое большее до завтра.
Казачка провела ладонью по голове, поправила узел на косынке, отвела влажный взгляд, вздохнула.
— Стало быть, до завтра… — нараспев повторила женщина и заспешила: — Так отдыхайте, далеко еще до вечера.
Я попытался продолжить сон, но спать не хотелось, и вышел из сарая. За забором сквозь матерые дубы просачивалось тлеющее солнце, отчего казалось, деревья задымят.
— Вовремя встали, я будить собрался, — сказал Петр, поправил на плече ремень ружья, но не успел передо мной отворить калитку, как появилась мать с узелком.
— Положь, — потребовала казачка. — Галошки прикупила, Егорке придутся в самый раз, без такой обувки в распогодицу ноги промочит, затемпературит.
— Рая наказала купить?
— Сама надумала, подсказки не потребовалось. Ребячьи размеры редко завозят.
— Не возьмет Рая, сама знаешь, что откажется от подарка.
Не слушая возражений, казачка без лишних слов затолкала галошки в рюкзак сына.
«Неужели придется шагать по лесу во мраке? — забеспокоился я, не ведая, что в июле закат в Прихоперье поздний, долго будет не гаснуть, раскидывать красные крылья, тлеть печными угольками.
Шагать, не перекидываясь словами, было скучно, и я спросил Круглова о лесной ягоде, которая обжила с давних пор край:
— Слышал, что отыскать каминку трудно, народ прозвал ее вороньим глазом, хотя вполне съедобна.
— Нелюдимая ягода, — объяснил парень. — Сильно пугливая, норовит спрятаться от человека, не желает идти в руки. Увидеть нелегко — разве если посчастливится. Птицы и всяко зверье употребляют в пищу, а человек — нет, хотя не вредная для здоровья, разве что сильно терпкая — рот вяжет.
Возле дома из рубленого теса Круглов остановился.
— Я мигом, прикупить кой-чего надо.
В витрине сельмага были выставлены хомут, пара детских игрушек, рулон штапеля, банка с крупой, несколько пачек сигарет и томик Бабаевского в выгоревшей обложке.
— К Раисе спешите?
Рядом остановился знакомый казак в пиджаке.
— Выходит, снова Петр будет виниться, — продолжил казак. — Шестой год пошел, как в лес на заимку ходит, а все напрасно: строгая сильно Раиса, с характером. Раньше промеж них была любовь почище, чем в кино показывают. Одни завидовали, другие радовались чужому счастью, да только разбилась вскорости любовь…
Хотя я ни о чем не спрашивал, хуторянин поведал историю Петра и Раи.
Вернувшись с армейской службы, Круглов не отходил от бывшей одноклассницы, соседки по парте, смешливой Раи, на которую засматривалось почти все мужское население хутора. Стали гадать: чем ухаживание закончится, когда ждать свадьбу? Кое-кто даже подумывал о подарке молодым. Но приехала из Урюпинска в отпуск чернявая медсестра, и Петр забыл про Раю. Люди осуждали непостоянство парня, а Петру хоть бы что: сопровождал медсестру в клуб, провожал и чуть ли не до утра любезничал, даже как-то увез с ночевкой на рыбалку. Осенью девушка вернулась в Урюпинск, да не одна, а с Петром, который устроился в станице водителем молоковоза. Когда земляки передали новость, что Рая на сносях, пожал плечами: «С кем нагуляла? Знать, в Артановском будет матерью-одиночкой больше».
Сказанное дошло до Раи. Благополучно разродившись сыном, в первые крещенские морозы ушла с ребенком из хутора от бабьих пересудов, бьющих в спину обидных слов. Пошла на работу в леспромхоз, переехала на кордон.
— С той поры кукует там с сынком, — закончил рассказ казак. — А Петро осознал вину, стал ходить к Раисе и сыну: с медицинской сестрой вышел разлад. Пытается вину замолить, зовет расписаться, только Рая дюже характерная, не прощает, не будь вас, не позволит порог переступить.
Из сельмага вышел Петр с кульком конфет.
Дорога свернула к Хопру, пошла на взгорье, затем спустилась в низину и пропала возле опушки леса.
Мы оставили позади шаткий мосток через высохший ручей, вступили в перелесок молодых сосенок, дальше обступили чуть ли не стеной дубы, их ветви пытались царапнуть.
В темную ночь легко заплутать, но я был с опытным провожатым, хорошо знающим каждую тропку, даже каждое дерево, к тому же путь освещал ущербный месяц, зацепившийся за вершины разлапистого дуба. Совсем рядом покрикивал бессонный филин, недовольный, что непрошеные посмели в неурочный час будить хрустом валежника.
Затрудняюсь сказать, сколько прошло времени, пока впереди затеплился тусклый огонек. Казалось, он совсем близко, почти рядом, стоило чуть ускорить шаг, пройти чащобу, огонек то приближался, становился ярче, то пропадал…
Наконец за стволами показался залитый луной бревенчатый дом, смотрящий на глухомань светящимся оконцем.
Петр дважды постучал в низкую дверь.
В доме послышались легкие шаги. Не поинтересовавшись, кто явился так поздно, дверь отворили. На пороге с керосиновой лампой в руке появилась женщина. Некоторое время разглядывала нас, точнее, меня, по Петру лишь провела быстрым взглядом.
— Здравствуй, Рая, — поздоровался Петр.
Женщина плотнее сжала губы, чуть набычила голову с высоким лбом, носом с горбинкой, острыми, как ласточкины крылья, бровями.
— Пришли вот, — помялся Петр. — Извини, что запозднились. Художника привел — попросился ему в попутчики.
— Это не ты у него попутчик, а он у тебя, — глухо поправила Рая, отступила, оставив дверь незатворенной.
Лишь только я, пригнув голову, переступил порог, как почувствовал тонкий аромат: на полу лежали серебристые былинки какой-то мелко порубленной травы.
— Это чтоб блохи не водились и мошкара не залетала, — объяснил Петр, снял и положил на чисто вымытую лавку ружье.
Раиса оставила лампу на столе и ненадолго скрылась, чтобы в желтом свете горящего фитиля на стол уселись коврига хлеба, кувшин то ли с квасом, то ли с молоком.
Раиса скрестила на груди руки.
— Гостя корми, а меня не надо, — заторопился Петр.
— Ты можешь не есть, — согласилась хозяйка, — а гостю не стоит засыпать с пустым желудком, гостя положено накормить, — обернувшись ко мне, предложила: — Завтра медовуху испробуете, она пока без градуса, пьяным не сделает, а силенок и здоровья даст.
Придавленный тяжелым взглядом хозяйки, Петр налил полную кружку молока, пододвинул мне.
— Может, с дороги чайку испьете?
Мы не успели отказаться, как Рая ринулась к плите, чтоб разжечь, поставить на конфорку чайник, но гости в два голоса попросили отложить чаепитие на утро.
Рая согласилась, а увидев, что Петр не спускает взгляда с двери в соседнюю комнату, сказала:
— Спит. За день наигрался до упаду, еще поработал — он у меня дюже хозяйственный, без дела не сидит, — покосилась на лавку с ружьем: — Оружие оставишь в доме, срок охоте не вышел.
— Знаю, просто так захватил, — признался Петр.
— Ладно, что знаешь.
И снова по горенке точно пронесся сквозняк: хозяйка ушла.
— Ложитесь, — предложил Петр, указывая на разобранную лесничихой кровать.
— А ты? Места хватит двоим.
— Отоспался в хуторе.
Я улегся, стал слушать, как за спиной убаюкивающе гудит ночной лес, покрикивает неугомонный филин и на крыльце с сигаретой покашливает Петр…
Разбудил петух. Он сидел под растворенным окном привязанный к колышку бечевкой (видимо, держали на откорм) и отчаянно горланил.
У колодезного сруба стояли Петр и Раиса. Лесничиха столкнула в колодец бадью, наклонилась, стала следить за падением. Сверкая шлифованной железной ручкой, бешено завертелся валок. Бадья плюхнулась в воду, и из глубины вырвался жестяной гром с всплеском. Цепь залязгала, подергалась, застыла. Отвергая помощь, Рая оттерла Петра плечом, сама вытянула бадью, перелила воду в ведро, унесла в дом. Пока шла, Петр смотрел ей вслед.
Я не стал беспокоить хозяйку приготовлением завтрака, захватил этюдник, вышел из дома.
Хоперский лес был тучным: дубы в обхват, бугристые в комле неизвестные мне деревья, редкие ели. Под ногами хрустел валежник. Порой я заплетался в вымахавшем папоротнике, вяз в пышном мху. Было тихо, как бывает лишь поутру вдали от поселений, когда не беспокоят людские голоса, ржание коней, гудки автомобилей, топор порубщика, лай собак…
В небе над деревьями кружил коршун, он неслышно резал воздух неустающими крыльями, чего-то высматривал. Неожиданно круто взмыл — птицу спугнула песня.
Поехал казак на чужбину далеку
На добром своем коне вороном.
Свою он краину навеки покинул,
Ему не вернуться в отеческий дом… —
выводил неокрепший мальчишеский голос.
Напрямик, сквозь чащобу, я двинулся на песню, а она зашагала навстречу — тревожная и горькая.
Напрасно казачка его молодая
Все утро и вечер на север глядит,
Все ждет не дождется с далекого края,
Когда ее милый казак прилетит…
Песня умолкла так же неожиданно, как возникла.
У молодой поросли дубков на меня лупанился мальчишка дошкольного возраста, лицо усыпала гречишная шелуха веснушек, которые сливались на носу в кляксы.
— День добрый, — ответил я, — что за песню пел?
— Казачью, ее мамка иногда поет, лучше моего выходит. А я вас, дядя, знаю: спали и губами смешно шевелили, будто с кем-то разговаривали, — мальчишка вытянул губы, зачмокал: — Вот так!
— А вот и нет. Когда люди спят, они лишь сны видят.
— Тебя зовут Егором.
— Мамка это сказала?
— Тогда дядя Петр.
— Снова не угадал.
По-взрослому Егорка сдвинул на затылок фуражку, почесал лоб.
— Значит, все-все знаете?
— Все не все, а кое-что известно, — признался я.
Егорка словно ждал подобного ответа:
— Тогда скажите: куда дни уходят?
— Вот сейчас утро, затем будет день, потом вечер и ночь, и дня как не бывало, куда он уходит?
Настала очередь мне чесать затылок.
— Спрашивал мамку, а она говорит, что дни в другие страны спешат, чтоб и там было светло. А правда, что в городе столько домов, как тут деревьев?
Не дожидаясь ответа, мальчуган закидал другими вопросами: как часы показывают время, почему охотникам позволено бить уток и зайцев, которые не делают никому ничего плохого, сколько лет может прожить человек, откуда берется град, как устроен самолет.
Мальчишку интересовало так много, что я взмолился:
— Не могу на все ответить, многого не знаю! Например, как устроен самолет.
Глаза Егорки заскучали:
— Вы же из города?
— Быть горожанином не значит все знать. Разве сам в городе не был?
— Н-не, — протянул Егорка. — Даже в хуторе ни разу. Мамка ходит туда за керосином, спичками, сахаром, солью, в лесничество за деньгами, а меня не берет.
Я слушал Егорку и не мог поверить, что за свои годы мальчишка ни разу не был в хуторе, не говоря про станицу или город, не видел телевизора, не слышал радио, кроме охотников, изредка заглядывающих на кордон, не встречал людей — Петр не в счет, тот пользовался каждым удобным случаем увидеть Раису с сыном.
Мальчуган продолжал задавать наивные вопросы, в которых его ровесники разбираются почище взрослых. Зачем, подумалось, Раиса сделала из сына затворника, ведь сама выросла среди людей, коль рассердилась на весь белый свет, почему озлобляет сына?
Точно угадав, о чем я подумал, Егорка сказал:
— Мамка говорит, что есть люди, от которых не дождешься добра. А дядя Петр добрый, жаль, редко заходит, но как приедет, снова зовет нас перебираться в хутор, только мамка его не слушается. — Помолчал, добавил: — И среди птиц и зверей не все злые. Казарки все добрые, напрасно их охотники стреляют, и зайцы добрые, только сильно пугливые, а филин злой-презлой, но я его не боюсь. Идемте, покажу, где живет.
Мы прошли заросшую острой как нож осокой пересохшую болотину, вышли на поляну, где высился темный от копоти дуб.
— Молния сожгла, — объяснил Егорка, — думали, выживет, но не схотел больше листвиться, мамка сказала, что пожелал уступить место другим деревьям.
Рядом с обгоревшим, точно окаменевшим, деревом из земли выбивалась целая поросль молодых дубков, погибший дуб точно оберегал их, сторожил.
— В дупле филин живет. Сейчас спит, чтоб ночью за поживой летать. Поймает мышь и к себе тащит. Не будем будить, не то осерчает.
Я слушал Егорку и вспомнил о желании попробовать неизвестную мне лесную ягоду.
— Каминку искать не надо, вот она, — мальчик раздвинул траву, и я увидел на стеблях сизо-черные горошины с туманно-восковым налетом. — Нынче каминку не собирают.
— Невкусная днем, шибко рот стягивает и язык делает чужим. Другое дело ранним утром, когда роса не высохла, тогда рви и ешь сколько пожелаешь. За день она силу набирает, к утру становится сладкой. Идемте дальше.
И мальчишка повел меня по лесу, где чувствовал себя как дома — были знакомы чуть ли не каждое дерево и пень, овражек и поляна, даже куст. Егорка рассказал, что в их Прихоперье заморозки приходят с севера в начале октября, позже холод крепчает, а первый снег жесткий; что среди уток лишь казарки умеют разговаривать на известном им птичьем языке; что подснежники-первоцветы селятся среди прелых листьев; что озера замерзают от берега, но даже лютой зимой остаются закраины; что облака собираются в тучи к непогоде, а ежи любят полевых мышей…
Я послушно шел за Егоркой, понимая, что в лесу можно смело во всем довериться мальчишке — с ним не пропадешь.
— Вы какой к нам шли дорогой? По-над рекой? Напрямик короче, только о колючки одежду оборвете. Мамка завсегда короткий путь выбирает, чтоб быстрее в лесхоз дошагать, меня с собой не берет… И отчего-то не слушает дядю Петра, когда он зовет назад в Артановское, там работа интереснее охраны леса от пожара, порубщиков, короедов… И я просил мамку переехать в хутор, да только серчает, как на дядю Петра, а он хороший, как придет, про разное рассказывает: и как трактор работает, и отчего телевизор показывает, и что скоро его собака ощенится и он подарит щенка, а еще, что в клубе по воскресеньям кино идет. Вы, дядя, видели кино?
Я кивнул, мальчик вздохнул:
— А я нет, и телевизор тоже, еще детей ни разу — взрослые редко, но приходят к нам, а дети еще не были. Хорошо, что дядя Петр вас привел — одного бы его мамка не пустила, а как уйдет, плачет тихо, чтоб я не слышал, только я все равно слышу…
Я писал дубы на берегу озера, Егорка стоял за спиной, зачарованно смотрел, как рождается этюд. Так заработался, что не заметил, как по лесу поползли беспокойные тени, солнце спряталось в сырых облаках, казалось, что пойдет дождь, сказал об этом Егорке.
— Небо только пугает — ветер тучи разгонит, — ответил мальчишка. — Коль боитесь промокнуть, и мне пора домой: мамка, поди, ругается, что ушли не позавтракав.
Мы двинулись назад к кордону, впереди снова шел мой юный проводник. Когда за деревьями показался знакомый дом, мальчишка сорвался с места, припустился бежать к матери, которая стояла на крыльце, рядом, покуривая, с ноги на ногу переминался Петр.
Добежав, Егорка собрался броситься к Петру, но под укоризненным взглядом матери остановился, погрустнел.
Позавтракав зайчатиной и квасом, Петр поторопил меня с уходом.
— Уже? — не поверил Егорка. — А я ждал, что расскажете, как работает телевизор и плавает танк.
Я поблагодарил Раису за гостеприимство, угощение, обещал прислать через Петра для Егорки книжку про самолеты, танки.
Говорил, а сам ждал, что лесничиха перебьет: «Нечего нам прощаться, с вами с Егоркой пойду, только вещички соберу». Но услышал иное:
— Счастливо добраться, легкого пути.
Егорка дернул Петра:
— Теперь не скоро придете?
— Ты жди, — попросил Петр.
— Я жду, всегда жду, — признался мальчишка.
Круглов надел на плечо ружье, которое не пригодилось, и не оглядываясь двинулся к теряющейся среди дубов тропе, я поспешил следом.
Мы были уже довольно далеко от кордона, когда позади услышали крик:
Сквозь чащобу спешил Егорка. Добежал, не успел отдышаться и протянул Петру кулек конфет.
— Мамка наказала вернуть, только я одну съел.
Егорка отдал кулек и припустился обратно.
— Погоди! — крикнул вслед Петр.
— Не! Мамка наказала тотчас вернуться.
Петр подержал конфеты, спрятал в вещевой мешок. Не глядя под ноги, точно слепой, шагнул в колкий куст шиповника, выругался. И я вновь увидел недоверчивую каминку. На длинных стеблях росло по одной похожей на вороний глаз ягоде. Оказавшись не скрытой травой и кустом, лесная ягода застенчиво и боязливо смотрела на двух путников, опасаясь, что мы позаримся на нее, сорвем и съедим.
Был он ничейным, бродягой. На побережье, в ближайшем поселке не имели понятия, где жил прежде, имел ли хозяина, какой награжден кличкой, как называется его порода. У безлюдных песчаных дюн он появился ранней весной, в некурортный сезон, когда санатории, дома отдыха, турбазы заполнены наполовину, «дикарей» раз-два обчелся. Много часов кряду в тихую погоду, в шторм он лежал на промытом песке или у кромки прибоя, положив голову на вытянутые лапы, и, когда подкатывала очередная волна, слизывал с себя соленые брызги.
С виду был жалок, хотя имел внушительный рост и угрожающий вид. От недоедания бока ввалились, шерсть слежалась, брюхо хранило пятно мазута, одно ухо стояло торчком, второе было рваным, хвост жался, в глазах стоял страх.
Трудно сказать, о чем он думал, глядя не отрываясь на морскую гладь, дыша соленым с привкусом йода воздухом. Вспоминал ли бездумное щенячье детство или все мысли были заняты едой: где раздобыть завалявшуюся кость-мосол, краюху пусть черствого хлеба и поскорее набить пустое брюхо?
Первым бездомного пса увидел Яков. Остановив машину на понравившемся берегу, удивленно произнес:
— Хотел быть Робинзоном, тебе отдать роль Пятницы, пожить на необитаемом участке без цивилизации, а оказалось, будет сосед, местный абориген.
— Ты о ком? — не поняла Надя и вышла из машины.
— Разуй пошире глаза.
При появлении машины и двух людей пес не повел ухом, лишь исподлобья взглянул на незваных и вновь уставился на море.
Щурясь на солнце, Надя увидела собаку.
— Боже, какое чудо! А глаза умные, человечьи! — забыв сбросить босоножки, девушка побежала к псу.
— Он, без сомнения, блохастый, еще, может быть, бешеный, — предостерег Яков, но Надя ничего не слышала, добежала до собаки, погладила по загривку.
— Бедненький, перемазался-то как! Кто ты, замухрышка, и где поранил ухо? В драке, защищая свою территорию, или таким уродился? А может, отрубил хозяин, чтоб стал злее?
Ответов, понятно, не было.
Надя вернулась к автомашине, достала флакон шампуня, флягу с минеральной водой и принялась мыть собаку. Когда мыльная пена попала псу в глаза, он не вырвался, не зарычал, а доверчиво покосился на развеселившуюся девушку.
— Умница! — Надя смыла с собаки пену, стала расчесывать.
— Может, полотенце принести, китайское махровое? Им еще никто не утирался, — предложил Яков.
— Обойдемся без полотенца, высохнем сами.
И верно: собака потряслась, раскидала вокруг брызги — часть попала на Якова, отчего тот брезгливо отступил.
— А теперь пора завтракать. Пошли… — Надя запнулась, не зная, как назвать собаку и выпалила: — Рваное Ухо, угроза пиратов!
Пес заинтересованно посмотрел на девушку и завилял хвостом.
— Небось голодный, бедняжка. По глазам вижу, что хочешь есть. Чем угостить?
За пса ответил Яков:
— Все слопает. Между прочим, и я не завтракал — в животе урчит. Еще пяток минут и свалюсь без сил.
— Умирающие от голода не сидят без дела, нарезают хлеб, открывают банку консервов, готовят салат, — ответила Надя.
Рваное Ухо заинтересованно следил, что делали люди, и когда ему бросили кусок колбасы, схватил ее на лету, проглотил, не пережевывая, так же быстро управился с булкой, плавленым сыром. Яков покачал головой.
— Псу всего мало — его не накормить, слопает нас двоих и не подавится.
— Собирайся в поселок за свежим мясом.
— У нас еще есть тушенка, лосось в масле.
— Это не для третьего в нашей компании, он предпочитает натуральные продукты. Лично тебе следует воздержаться от мясного, стать вегетарианцем.
— Чтоб не обрастать жирком. Если станешь лопать на ночь глядя — вырастет живот, отвиснут щеки.
Яков не стал спорить, выгрузил из машины палатку, надувные матрацы, коробку с походной пластмассовой посудой и укатил в поселок.
Надя подозвала Рваное Ухо:
Пес заурчал, заводил по песку хвостом.
— Айда купаться, — девушка скинула сарафан, побежала к морю, отплыла и позвала: — Ко мне!
Пес не раздумывая ринулся выполнять приказ, грудью рассек воду, заработал лапами. Прилив гнал обратно к берегу, но пес настойчиво греб и достиг Нади, уткнулся в нее кудлатой головой.
— Молодчина! — девушка положила одну, затем другую руку на собаку. — А ты удержишь меня, не дашь пойти ко дну! Поплыли назад!
Рваное Ухо послушно повернул к берегу, плыл рядом с Надей, признав в ней свою хозяйку.
Когда спустя пару часов вернулся с покупками Яков, Надя, захлебываясь словами, стала расхваливать собаку:
— Умнее не встречала! По приказу дает лапу, ложится и встает, подает голос.
Не дожидаясь согласия, продемонстрировала ряд трюков — все приказы пес выполнял без ошибок, с каким-то удовольствием, радуясь, что может услужить девушке.
— Вам обоим в цирке работать, тебе уж точно: и зарплата не чета нищенской аспирантской стипендии, и слава, — посоветовал Яков и занялся установкой палатки, надуванием матрацев.
— А и правда: вернемся и уйду с кафедры, подамся в цирк! — смеялась и играла с собакой Надя. — Надоело писать диссертацию. В цирке настоящее творчество. Дирижер взмахнет палочкой, оркестр заиграет марш, и я выйду на арену с Рваным Ухом в роскошном платье! Разучу трюки, и продемонстрируем чудеса дрессировки!
Так и зажили на прежде безлюдном мысу Яков, Надежда и Рваное Ухо, собака прежде ничейная, а отныне нашедшая хозяев.
На следующий день все вокруг для двоих стало привычным, будто родились в этом лукоморье, где несмолкаем шум прибоя, нет городских забот. По утрам и вечерами, когда спадала жара, резвились в море, если ссорились, то лишь по мелочам — ссоры походили на семейные перебранки, хотя двое еще не были супругами, регистрацию брака запланировали на осень.
Рваное Ухо ни на шаг не отходил от Нади, не сводил с нее чуть влажного взгляда, ожидая приказа, чтобы тотчас выполнить. Псу казалось, что знает девушку и ее спутника давным-давно, еще со щенячьего возраста, именно они выкормили его, благодаря им он простился с голодом, который рождал в теле противную слабость.
Как-то в закат, сидя у кромки прибоя, Яков спросил:
— Что собираешься делать со своей собакой? Не брать же с собой? В твое общежитие не пустит комендант, ко мне нельзя из-за аллергии мамы к шерсти.
Надя заморгала выгоревшими ресницами, из руки выпал нож, которым чистила картошку. Девушка еще не задумывалась, что будет с Рваным Ухом в конце отпуска, когда придется сворачивать палатку, возвращаться в Волгоград, где Якова ожидает НИИ, ее — завершение диссертации, защита. Бросать пса на пустынном берегу? Исключено. Увозить — тоже. Проблема легко разрешилась, если бы вселились в кооперативную квартиру, но дом сдадут не скоро…
Девушка перевела взгляд с пса на Якова, но ни Рваное Ухо, ни Яков не подсказали выход из трудного положения, почти тупика.
— Что-нибудь придумаем, — ушла от ответа Надя.
— Тебе виднее, собака признает лишь тебя, меня игнорирует, — Яков включил в машине приемник, в тишину ворвался оркестр.
Надя зажала уши:
— Играет Спиваков, классно играет.
Присоединяясь к требованию Нади, Рваное Ухо поднял дыбом шерсть и зарычал.
— Даже собака не переносит грохота, — заметила девушка. — Будем слушать тишину, а не какофонию эфира. Кстати, играет не уважаемый тобой Спиваков, а бездари-музыканты, с таким же бездарным дирижером.
Рваное Ухо зарычал грознее, затем стал подвывать.
— Еще накличет беду, — буркнул Яков, выключил приемник, и пес тотчас умолк, развалился в тени палатки, смежил веки. Спал Рваное Ухо лишь днем, и то урывками, реагируя на звяканье ложек, вилок, чистку песком дна кастрюли. Ночами расплачивался с пригревшими и кормящими его людьми за доброту и бодрствовал, охраняя сон новой хозяйки. Прислушивался к каждому шороху, неслышно бродил вокруг палатки с машиной, косился на гудящее море, точно просил умолкнуть, не будить людей. Днем играл с Надей, бросался за ней в волны, плыл рядом, готовый в нужный момент подставить девушке спину, помочь вернуться на твердую почву. Плавал и с Яковом, но редко, без удовольствия: Яков любил чудить, изображать из себя тонущего — бестолково бил руками по воде, хватал ртом воздух, кричал «помогите!». Впервые увидев, как человек тонет, Рваное Ухо рванулся к Якову, чтоб не дать захлебнуться, тем более не уйти на дно. Но мужчина навалился на собаку, и чтоб самому не наглотаться соленой воды, Рваное Ухо вырвался. Снова подставил спину, но Яков вновь стал топить, пришлось схватить человека за плавки, тащить к берегу.
— Отпусти! — потребовал Яков, но это был второй приказ, следовало выполнить первый, и пес продолжал тащить.
— Тварь, порвала итальянские плавки! — разозлился Яков, хотел замахнуться на собаку, но услышал смех Нади и не стал мстить за испорченные плавки.
Дни отпуска бежали стремительно наперегонки. Надя все чаще присаживалась подле собаки, смотрела в ее умные глаза, которые словно спрашивали:
«Неужели нас ждет расставание? Неужели я вновь останусь на берегу и вернутся одиночество с голодом?».
Надя гладила пса, и Рваное Ухо млел от прикосновения женской руки.
— Под утро привиделся сон, — заговорил Яков, не отрываясь глядя на рыжий диск солнца, медленно ныряющий в море. — Увидел себя в окружении внуков, да, именно внуков. Говорят, их любят больше сыновей и дочерей — когда стану дедом, проверю это.
Ветер трепал у Якова волосы, отчего младший научный сотрудник НИИ стал похож на задиристого воробья.
— Чтобы внести взнос за кооператив, придется нам работать репетиторами оболтусов, имеющих богатых родителей. Как вселимся наконец-то в новое жилье, примусь за диссертацию, иначе жена «остепенится», а муж без звания — будет совестно перед детьми…
Надя подсела к Якову, склонила голову ему на плечо, что не понравилось собаке — пес лег между людьми.
— Пшел! — рассердился Яков.
— Так он же ревнует! — рассмеялась Надя.
На следующее утро Яков вновь уехал за продуктами, с собой взял Надю, а та забрала собаку. На рынке в поселке Рваное Ухо оставили в машине, что привлекло внимание продавцов с покупателями:
— Ухо обрезали, чтоб был злее.
— Такого лучше на цепи держать, а не в машине.
— Уж не бешеный ли?
— На такого никакой жратвы не напасешься.
Рваное Ухо зарычал, показав острые клыки, и люди попятились от машины, где для собаки пахло не бензином, а Надей, отчего щекотало в носу, хотелось по-щенячьи взвизгнуть…
До возвращения в Волгоград оставались считанные дни. Яков готовил машину в дальнюю дорогу, подкачал скаты и, не глядя на Надю, спросил:
— Соскучилась по дому?
Надежда промолчала. О каком доме заговорил Яша, разве можно считать таковым комнатку с соседкой в общежитии, где все казенное?
В очередной полдень солнце вновь забралось в поднебесье, накалило берег, отчего от гальки, песка поднялся горячий воздух. Рваное Ухо подремывал. Надя перебирала камушки, затем подобрала палку и бросила в море.
Пса точно подбросила пружина — вскочил и ринулся за палкой. Доплыл, зажал зубами, вернулся к девушке, положил у ее ног.
— Молодец! — Надя собралась снова бросить палку, но Яков опередил, послал в море тяжелый болт с испорченной резьбой.
Не дожидаясь приказа, собака вновь поплыла. Достигла места, куда упала брошенная вещь, но вокруг ничего не плавало.
— Ищи! — потребовал Яков, и Рваное Ухо послушно нырнул, достиг дна, где кружил косяк мальков, поискал, но ничего не увидел, следовало покопать носом песок — вдруг вещь зарылась, но появилось жгучее желание немедленно вдохнуть свежий воздух, к тому же вода давила на уши. И пес пулей понесся наверх. Отдышался и вновь с завидным упорством нырнул. На этот раз под водой пробыл дольше, обшарил песок, но снова ничего не нашел.
Теперь на поверхность поднимался медленнее по причине возникшей слабости, неприятно забулькавшей в желудке, попавшей через ноздри соленой воды.
Надежда что-то кричала, но пес крепко уяснил, что надо, необходимо выполнить приказ, все остальное потом.
С каждым разом нырять становилось труднее, но Рваное Ухо не мог вернуться ни с чем и продолжал опускаться ко дну.
Надежда кричала, затем поплыла к собаке, а та все ныряла, ныряла, пока еще были силы, глаза не затмил туман. Но силы иссякли, лапы стали непослушными, явилось незнакомое прежде безразличие. В глубине гаснущего сознания оставался закон: нельзя, ни в коем случае нельзя возвращаться к хозяйке без брошенной вещи, надо, во что бы то ни стало необходимо отыскать, принести вещь.
И пес снова нырнул. В последний раз.
Вода сомкнулась над ним, захлопнулась, как дверца автомобиля, которую не забывал запереть Яков, когда приезжал на рынок и уходил к торговым рядам…
Надежда сидела, бессильно опустив руки. Ничего не видя, смотрела в одну точку, на море. Мокрые волосы закрывали лицо, с волос стекала вода, образовывая у ног небольшую лужицу — маленькое море, которое быстро впитывал песок.
— Не береди душу, не расстраивайся, все равно не взяли бы с собой, а один на берегу он вскоре бы сдох, — успокаивал Яков.
Надежда снизу вверх посмотрела на Якова совсем так же, как на него смотрел Рваное Ухо, и ничего не ответила.
— Следующим летом купим походную газовую плитку, иначе замучимся с костром.
Надежда стала и, как слепая, поднялась на холм намытого в бурю песка.
— Ты куда? — удивился Яков. — Если в поселок, то хлеба достаточно.
Надя была уже на холме. Шаг, другой по сыпучему склону — и скрылась за дюной.
К мысу, где оставались палатка, машина и Яков, она не вернулась. И Яков долго ломал голову над вопросами: зачем ушла, отчего ничего не объяснила на прощание? И, главное, как без единого гроша доберется до города и далее до Волгограда?
Что за краем земли?
И у птицы есть родина, и у моря есть течение, и у ночи есть конец, и у племени есть счастье.
С некоторых пор (точнее, со дня прилета в Нарьян-Мар) Галка Сорокина видела во сне одно и то же — как мельтешит с подносом между столиками ресторана, больше похожего на обычную на Большой земле столовую, принимает заказы, получает на кухне шницели, отбивные, салаты, в буфете спиртное, несет все клиентам, вокруг нескончаемый гул голосов, звон вилок, бокалов…
Когда просыпалась, чувствовала себя невыспавшейся и снова ругала за излишне поспешное решение лететь чуть ли не на край земли, где сразу за городом тундра, заканчивающаяся Печерским морем и далее Ледовитым океаном. Нарьян-Мар был деревянным от тротуаров до домов, название переводилось как «К р а с н ы й». К концу первого месяца на новом месте все наскучило, особенно осточертела работа официантки, но другой с девятью классами было не найти, тогда и стали являться однообразные сны. Если прежде Галка спала как убитая, даже пушкой под ухом не разбудить, то теперь стала вставать по утрам с тяжелой головой, с прескверным настроением, которое не покидало целый день.
«Ранехонько шалят нервишки, что будет, когда повзрослею? — думала Галка. — Напрасно пошла в официантки, лучше бы шила т о р б а з а и м а л и ц ы из оленьих шкур — за швейной машиной голову не дурманят запахи соленья, водки, супов, не надо то и дело одергивать клиентов, норовящих ущипнуть или погладить… Наврали, а я, дуреха, поверила, будто в ресторане буду при чаевых и сыта — не придется тратиться на продукты, готовить себе…»
Крутиться приходилось с пяти вечера до часу ночи, затем сдавать выручку, помогать на кухне мыть посуду и усталой, как говорится без задних ног, возвращаться в общежитие.
В конце смены было единственное желание: поскорее добраться до кровати, сбросить одежду и с головой накрыться одеялом.
На второй месяц житья-бытья в Нарьян-Маре Галка стала ругать себя за скоропалительное решение покинуть Большую землю (так называлось все, что лежало за пределами Ненецкого национального округа), прилететь в малоземельную тундру с островками жухлой травы, илистыми ручьями, мхом, небольшими озерами — дальше начинался океан.
«Далеко же тебя, Сорокина, занесла нелегкая, аж на край земли. Почему не жилось в Осиповке? Что из того, что работа лишь на ферме, все парни пьющие, танцы в клубе раз в месяц, телевизор ловит только одну программу, в медпункте одна медсестра, до райцентра трястись три часа? Живут же другие, не срываются, не уезжают черт-те куда в неведомые края…»
Осиповку с матерью вспоминала часто, в селе был дорог каждый бугорок и деревцо, даже собачонка, не говоря про сельчан от мала до велика.
Когда уезжала (казалось, ненадолго), простилась с матерью, сестрой, всплакнула, обещала собрать деньжат на покупку коровы, верила, что ожидает интересная жизнь и счастье, к которому стремится каждая девушка. Не желала слушать односельчан, особенно старых, которые пугали, будто в городах легко пропасть ни за грош, ступить на худую тропку, откуда дорога в гулящие или тюрьму. «В Осиповке не жизнь, а сплошная смертная мука, хоть в петлю лезь или пей уксусную эссенцию… Останься там и стала бы старой девой — ни мужа, ни детишек, никакой надежды на счастье, будущее…»
Как все девушки, Галка очень хотела рано или поздно (лучше, понятно, поскорее) встретить голубоглазого, в два метра роста, широкоплечего блондина, кто защищал бы, не брал в рот спиртное, на кого можно во всем положиться, главное, влюбиться очертя голову без памяти, и он в нее тоже.
При прощании обещала матери писать, слать деньги (все выполнила) и укатила в райцентр, оттуда в Архангельск, который оглушил гудками машин, звоном трамвая, удивил толпами людей, асфальтом, магазинами с невиданными в Осиповке товарами, набережной Двины. На все смотрела широко распахнутыми глазами, завистливым взглядом провожала длинноногих в коротких юбках белокожих ровесниц, наряженных исключительно в импортное.
В бюро по трудоустройству бегло взглянули на школьный аттестат и в связи с отсутствием прописки предложили временную работу уборщицы.
Выбора не было, и на следующий день Галка подметала, мыла полы, выносила мусор из кабинетов. Зарплату положили не ахти какую большую, но хватало на пропитание и оплату угла у бабульки, запретившей приводить ухажеров, прикладываться к бутылке. В ответ Галка побожилась, что еще ни разу не брала в рот спиртное, а ухажеров и в мыслях не держит.
В середине лета учреждение неожиданно закрылось, всех уволили, бабка потребовала освободить угол, так как нашла выгодного жильца с юга, привозящего на рынок инжир, гранаты, курагу.
Следовало искать новую работу, а с ней крышу над головой. Поспешила улететь в Ненецкий край, где, как обещали, всякой работы завались по причине скудости рабочей силы, требуются разные специальности и, главное, большая нехватка женского пола, выходит, раз плюнуть выйти замуж, надо только не проглядеть свое счастье.
«Плохо, что я не хваткая, не нахальная, застенчивая, не чета другим, кто умеет не выпустить из рук, потащить в загс понравившегося. Худо, что родилась слишком тихой, не верчу юбкой, не строю глазки — хорошо бы стать чуть смелее…»
Заполярный городок встретил с безразличием. Работы, действительно, было много, но вся для специалистов с дипломом или большим стажем, разрядом. Нашлось место машинистки в редакции газеты «Красный тундровик», но, на свою беду, Галка не умела печатать. Была свободная вакансия завхоза в школе-интернате, где учились дети оленеводов, но восемнадцатилетней не могли доверить уголь в котельной, постельное белье, мебель и прочее имущество. Предложили работать курьером, гардеробщицей, телефонисткой, почтальоном, наконец, официанткой, и Галка выбрала последнее.
Днем ресторан работал как обычная столовая самообслуживания, вечером столики накрывали накрахмаленными скатерками, ставили вазочки с бумажными цветами. В меню были антрекоты, салаты, крепкие напитки, которые привлекали посетителей, позволяли им принимать градусы не на улице, не в неуютной гостинице, а в более-менее культурной обстановке при небольшом оркестрике, исполняющем по заказу и за плату любую мелодию, от «Мурки» до песен Высоцкого.
Первый день прошел как в тумане, позже Сорокина научилась общаться с клиентами, особенно подвыпившими, расторопно приносить заказы, брать расчеты. Чему не могла никак научиться, так обжуливать хлебнувших лишку, подкладывать под столы пару-другую пустых бутылок, чтобы при расчете получить за них как за выпитые. Как ни странно, работники столовой-ресторана приняли новенькую в коллектив, старшая официантка Кира даже взяла шефство, обучила всяким хитростям.
Поселилась Сорокина в общежитии, с работницей прачечной, сразу позавидовавшей Галке:
— Тебе хорошо — чаевые каждый вечер капают, а мне нельзя обсчитывать — аппарат выдает чек с точной суммой. Еще пьяные любят швыряться деньгами, ты уж рот не разевай.
То же самое посоветовала и Кира:
— От чаевых нос не вороти, чаевые не подачка нищему, они были во все времена. Не тушуйся и бери сверх счета смело сколько дают. Чаевые положены за быстрое, точное выполнение заказа, культурное обслуживание, в том числе за улыбку официантки.
Галка стыдливо опускала глаза. Кира продолжала учить уму-разуму:
— Богатые клиенты, как зальют за воротник, делают второй, а то и третий заказ спиртного, к концу не помнят, сколько выпили: от нефтяника или газовика не убудет, коль лишится тысчонки. Знаешь, сколько зарабатывают? Деньги куры не клюют.
Сорокина слушала наставления и думала: «Никогда не брала чужой копейки, стану краснеть, коль начну обсчитывать, округлять сумму, подкладывать пустые бутылки. Что это за работа, если советуют жульничать. »
За спиной вновь раздался настойчивый стук вилки о тарелку.
— Счас подам! — не оборачиваясь крикнула Сорокина и подумала: «Вот еще один нетерпеливый, бросай для него все дела и спеши обслужить!»
Галка резко покрутила ручку кассового аппарата, и тот выплюнул чек, который попал в руки раздатчицы.
— Два шницеля и два салата! — резко приказала Сорокина.
— Не распускай нервишки, держи в узде, — посоветовала Кира. — Только часик работаешь, а уж упарилась, будто десять часов на ногах с подносом. Умей сохранять силенки, не тратить понапрасну, не бегай как угорелая. Клиент потерпит, с голода не помрет. Начнут хамить — не отвечай тем же, станут звать встретиться — промолчи, будто глухая. А будут руки распускать, сохраняй спокойствие. Мужики как устроены? Чуть зальют за воротник, нахальничают, желают показать мужскую сущность, тянет на подвиги на бабьем фронте. На тебя клюют оттого, что моложе, свежее нас, мы клиенту не в новинку, знают, что от их сладких речей не таем.
— Истинная правда, — согласилась раскрасневшаяся от жара плиты раздатчица. — Не потакай шустрякам, кто норовит к себе в койку затащить. Все бабьи беды от слабости, жалости: услышим ласковое словцо и таем, в грех впадаем.
— Слушай и мотай на ус, — посоветовала Кира, не без оснований считающая себя многоопытной в житейских и сердечных передрягах, отношениях полов. — Приставания оберни в шутку, не переходи на крик и визг, тем более не отвешивай пощечину, за это мигом накатают жалобу, придется перед директором оправдываться, премии лишат.
Кира уплыла с заказом, виляя бедрами.
Галка собралась отдать чек, но к раздаче подошла Милка Бесфамильная, получившая фамилию в детском доме. Милка работала третий год, пережила трех директоров, один раз чуть не попала под суд за то, что подала самопальную водку в фирменной бутылке, имела выговоры, но не собиралась увольняться, пока не накопит на однокомнатную квартиру. Узнав, что Кира учит новенькую, влезла в разговор:
— Не ходи как в воду опущенная или собакой укушенная, побольше улыбайся, чтоб клиент подобрел, не жаловался на жилистое мясо, недожаренную отбивную. Водку в графинчик не переливай, приноси в закупоренной бутылке, иначе заподозрят в разбавлении. Не носись как угорелая, клиентам нравится, когда обслуживает незапыхавшаяся. Испачканную скатерть не переворачивай, а замени на чистую, передничек чаще стирай, крахмаль. Следи за прической — мужики уважают ухоженных, накрашенных, — Милка отдала чек, получила заказ, поставила на поднос, напоследок сказала: — За твоим столиком новичок, по виду сильно культурный, такие бывали в больших городах в ресторанах, знают про чаевые, не жадятся. Ты с ним так же культурненько — не прогадаешь.
Галка отыскала взглядом столик возле сохнущего фикуса. Новый клиент не нервничал в отсутствие официантки, не стучал по тарелке, терпеливо ожидая, когда принесут меню, не ведая, что оно устарело, составлено в минувшем месяце, когда были селедка, мандарины, молдавское вино. Клиент был молод, по виду студент или выпускник института.
— Может, геолог, или нефтяник, другие к нам не летят, — определила Кира.
— Может, и летчик, — подсказала раздатчица.
— Не похож, — не согласилась официантка. — Летчики, как правило, в форме при погонах. Точно — геолог. Неспроста за твой столик сел, по всему, успел приметить, желает заиметь знакомство.
Галка зарделась и на негнущихся ногах пошла к новому клиенту.
Парень со шкиперской бородкой, в роговых очках, в грубошерстном свитере поднял глаза на официантку, и Сорокина качнулась, чуть не упала, настолько пронзительным был устремленный на нее взгляд.
— На ваше усмотрение.
Галка порадовалась, что парень не заказывает по меню, не приходится говорить, что меню сплошная липа, и не пошла, а полетела точно на крыльях к кассовому аппарату, затем к раздаче. Отдала чек, попросила не слишком жилистую отбивную с маринованным огурчиком.
«Если голодный, одной порции мало. Жаль, нет первого». С опозданием вспомнила про салат, заказала и его. Получив все, отнесла к столику у фикуса.
— Премного благодарен, — сказал парень.
— Приятного аппетита, — ответила Галка, вернулась к раздатчице Аграфене, и та зашептала:
— Почему ест всухомятку? Скажи про водку в буфете: коль не употребляет горилку, пусть заказывает портвейн, он не крепкий и сладкий. Еще предложи пива.
— Культурные люди водку и портвейн не пьют.
— Скажешь тоже! До твоего прилета режиссер у нас столовался в Доме культуры с самодеятельностью возился, то ли холостой, то ли разведенный. Так без бутылки не садился, за ужином раздавливал пол-литра, к закрытию ресторана лежал вроде трупа. А минувшей зимой артисты прилетели, всей компанией к нам завалились, пили, не зная меры, а тоже считались культурными.
Подошедшая Мила дала оценку парню:
— Одет не богато, очки говорят, что образованный.
— Не суди по одежке, — влезла в разговор Аграфена.
Мила пропустила замечание мимо ушей:
— При расчете сумму не округляй, в этом деле не бери пример с Киры.
— Точно, — закивала раздатчица. — Держись от нее подальше, не то не отмоешься. Кирка дошлая, научит такому, что под суд попадешь, к тому же по возрасту тебе в подруги не подходит. Кукушка каких поискать: который уж год ищет мужика с тугим кошельком, чтоб заарканить.
Сорокина увидела, что новичок справился с едой, подала счет. Парень отдал две сотни, когда официантка стала отсчитывать сдачу, сказал:
Лучезарное настроение тотчас испортилось: «И этот из себя купчика изображает, думает, из-за червонца любые унижения стерплю! Верь потом внешнему виду!». Выгребла из кармашка деньги, отсчитала пятнадцать пятьдесят, положила перед парнем и была такова. «Увидели бы Кира с Милой, что отказалась от чаевых, и обозвали бы дурой, блаженной». Поспросила у буфетчицы лимонад, осушила стакан, но настроение не улучшилось.
«Хотела в Заполярье подзаработать, чтоб приодеться, матери с сестренкой помочь, овладеть хорошей профессией, но ошиблась: официантка в Осиповке не потребуется». Подсчитала в уме сбереженные деньги: «Мало накопила, еще бы пяток тысчонок заиметь, не то после покупки билета домой, подарков ни гроша не останется. Не стоит ждать зимы, тогда не улететь: самолеты летают редко, каждое место на вес золота. В Архангельске хорошо бы устроиться на пароход поварихой, попасть в дальние страны, там бы прибарахлилась, сестру приодела — скоро семнадцать, заневестится…»
О мечтах призналась Кире, но та облила холодной водой:
— И не думай о загранрейсе, без характеристики и справки об учебе на повара не берут. И я во сне видела себя на палубе и в чужом городе, где завались разной дешевой мануфактуры. Кадровик в порту опасается принимать молоденьких, боится, что те станут команду от дел отвлекать, юбкой крутить, ссорить моряков. В загранку берут лишь в годах и непривлекательных, чтоб никто не зарился.
Монолог официантки прервал директор: рано располневший, страдающий одышкой, он постоянно оглядывался, словно опасался, что подслушивают или пришли арестовать.
— Девочки, сколько раз просил уносить со столов пустые бутылки, какие клиенты с собой приносят! В буфете отродясь не было и не будет спирта, увидит санэпидемстанция или милиция, составят протокол, назначат штраф — доказывай потом, что спиртом не торгуем.
— Не верят клиенты нашей водке, считают, что разбавленная, градусов не сорок, а куда меньше, — ответила Кира.
Директор замахал руками:
Киру было не остановить:
— Свой спирт пьют вместе с нашим пивом, чтоб быстрее окосеть. К нам приходят не брюхо набить, а залить за воротник при оркестре, официантках, в культурной обстановке, от которой в тундре отвыкли.
— Но некоторые клиенты не знают меры выпитому, устраивают дебош: от портвейна и водки не теряли бы человеческий облик.
— И от водки можно зверем стать. Вы не беспокойтесь: дебоширов быстро милиция приструняет, не напрасно ее бесплатно кормим.
Последнее признание так напугало директора, что он лишился дара речи.
Смена закончилась, как всегда, в полпервого ночи. Как ни валилась с ног от усталости, Галка помогла мыть посуду. В общежитии, чтоб не будить соседку, не зажгла свет, в темноте разделась (впрочем, какая темнота, коль шла белая ночь, за окном небо точно простыня), юркнула под одеяло, свернулась калачиком.
«Неужто снова станет сниться работа? А в Осиповке завидуют, думают, что на Севере катаюсь как кот в масле, гребу деньги лопатой…»
Решила завтра написать домой, отправить очередной перевод, чтоб мать могла к зиме прикупить дровишки, обновку растущей словно на дрожжах сестре. Уснула с предчувствием прихода нечто нового, что изменит скучную жизнь, а под утро вновь увидела ресторан с нетрезвыми клиентами, гулом голосов, звоном вилок, ножей, оркестриком…
Письмо заняло две тетрадные странички. Коротко написала о себе — успокоила, что не болеет, о многом умолчала, кое-что приврала:
Здравствуйте, дорогие мама, Клаша. Кланяюсь дяде Кондрату, тетке Пелагее и всем, кто меня знает.
Живу неподалеку от Печоры, река эта пошире нашей Тишанки, рыбы пропасть сколько и вся крупная. Продолжаю работать в ресторане, платят исправно, бывают премии, на последнюю купила кухлянку на оленьем меху, шапку с длинными до плеч ушами, уже близки морозы. В выходные отсыпаюсь, хожу в кино, смотрю телевизор, он показывает Москву и Архангельск…
Почесала рукой затылок, точно будила спрятанные под волосами мысли. Захотелось похвастаться химической завивкой, но мать не одобрила бы, решила, что их Галка вступила на худую дорожку, загуляла. Нельзя было сообщить и о впервые в жизни сделанных маникюре, педикюре.
…Подружилась с одной в нашем ресторане, она, правда, старше меня, один раз была замужем, имеет дите, знает о жизни куда больше моего…
За пределами письма оставила признание, что напрасно улетела к черту на кулички, на край земли, что клиенты попадаются нахальные, приходится выслушивать всякие глупости, но научилась не обращать внимания, тем более не краснеть, помалкивать.
…Письма шлите авиапочтой, потому что почту сюда доставляют исключительно самолетами, пароходы приходят только в навигацию, пока море с Печорой не покроет лед.
Подумала и приписала:
Остаюсь ваша дочь и сестра. Жду ответа, как соловей лета. Лети с приветом, вернись с ответом.
Покидать Нарьян-Мар и в общем Заполярье Галка решила осенью, когда к тому времени на сберкнижке соберется тысяч тридцать.
«Крышу пора перекрыть, телочку прикупить, чтоб на столе завсегда было молоко, — планировала Сорокина в день получки, посещая сберкассу. — Тут тридцать тысяч не деньги, в ресторане за вечер столько же оставляют. Не поверят дома, что и в Заполярье деньги легко не даются, требуют приложить силы».
Галка ступала по деревянной мостовой мимо двухэтажных домов на сваях, оставив позади почту с венчающей ее островерхой башенкой. Почта, как все другие постройки, была из древесины, сплавляемой по реке, отчего пахло смолой. Подступала полярная ночь — до нее оставалось совсем ничего. В «месяц большой темноты», как звали в крае бесконечную зимой ночь, небо круглые сутки бывало черным-черно, днем не гасли фонари, снежная круговерть раскачивала их, под ногами ползли причудливые тени.
Идти на работу было рано, Галка завернула в Краеведческий музей к знакомой чукчанке Наули, проживающей в соседней с Сорокиной комнате. неизвестно, сколько лет коренной жительнице тундры — спросить Галка стеснялась. Наули в пятнадцать вышла замуж, родила троих сыновей-погодков, в город приехала после смерти мужа («Олень копытом сильно ударил»), старший сын жил в Архангельске, два других завербовались на рыболовецкий траулер. Наули горевала, что сыновья не женаты, нет внуков.
В музее было безлюдно — шел ремонт. Наули обрадовалась гостье, словно не видела Галку целый век, посоветовала еще раз посмотреть пейзажи, портреты северян кисти двух киевских художников, чуть ли не год проживших на острове Колгуев.
Галка всматривалась в полотна и думала: «Почему нарисованы одни люди, точнее, их головы и лишь изредка олени? А где тюлени, моржи, волки, о которых слышала всякие страхи, будто стаи нападают не только на стада, а и на оленеводов?»
После осмотра Галка пришла в дежурную, где Наули угощала черным как деготь чаем и строганиной старика с редкой бородкой.
— Родственник, однако, — объяснила ненка. — Не смотри, что мало говорит — привык в тундре молчать. Прежде не седой был, зубы имел свои. Жалуется на невестку — плохо за мужем смотрит, хочет бросить стойбище, в город переехать, только без женщины мужчинам никак нельзя…
«И в Осиповке так же: тут невестка собралась покинуть чум, у нас парни после армии вербуются на стройки, скоро одно старичье останется».
Вспомнилось, как в конце каждого лета мать непременно посыпала в доме пол мелко нарезанным чебрецом и в комнатах долго не выветривался кисло-сладкий запах, как всей семьей белили печь… Село часто являлось в мыслях, Сорокина скучала по раскидистым над озером вербам, трещотке пастуха, созывающего по утрам коров, рассветам и закатам, каких нет и никогда не будет в Заполярье.
После музея вернулась в общежитие, но дверь в комнату оказалась запертой. Робко постучала. Послышались приглушенные голоса и вышла соседка, запахивающая халат.
— Погуляй часок — не одна я, с гостем.
Из комнаты несло табачным дымом.
— Вчера познакомилась. Самостоятельный, прежде штурманом на пароходе служил, нынче у геологов водит вездеход.
Соседка отступила, закрыла перед Галкой дверь. Ничего не оставалось, как идти в кино, в третий раз смотреть «Карнавальную ночь».
Когда после сеанса вернулась в общежитие, застала дверь незапертой, соседку крепко спящей. На столе лежали открытые консервы, пара пустых бутылок из-под вина, конфеты в пестрых обертках. Пахло совсем как в ресторане, и Галке стало грустно, на плечи навалилась тоска.
Проснувшись ближе к вечеру, соседка заявила, что не пойдет в прачечную:
— Не выгонят за прогул — некому больше в пару у машин горбатиться. Мой лишь на трое суток в город приехал, вместе их проведем, — сладко потянулась, добавила: — Погуляй еще, чтоб с хахалем как следует проститься.
Галка взглянула в окно, где сыпала с неба крупа, кружил ветер, и только вышла на крыльцо, как столкнулась с рослым мужчиной в дохе, нерпичьей шапке, унтах и с бутылкой в кармане — по серебряному горлышку Сорокина узнала шампанское.
«Где раздобыл? В магазинах с прошлой зимы не осталось даже припрятанного под прилавком. — Шампанское молодой официантке еще не приходилось попробовать. — Говорят, язык щекочет, пьется легко, пьянит не сразу».
К снегу, пусть редкому, без хлопьев в середине лета Галка успела привыкнуть, не удивлялась, если в августе морозец щипал щеки. Без теплых сапог можно было нахолодить ноги, и Галка побежала по деревянному тротуару к Наули, которая простилась с сородичем, стала слушать неспешный рассказ ненки:
— Придет весна — вернусь в тундру. Стану одежду чинить и шить, шкуры выделывать, еду бригаде готовить. Весной у нас хорошо — нарты легко катятся, олешки носами снег разгребают, ягель ищут, а женщины — цветы.
— Какие в тундре цветы? — удивилась Сорокина.
— Много цветов, — подтвердила Наули. — В городе их не увидишь. Еще можжевельник, мох. Одно плохо в тундре — комары. — Hayли растягивала слова, точно пела.
Выпив кружку чая (отказаться было никак нельзя), вернулась в общежитие, где соседка без гостя лежала, положив под голову руки.
— Мой досрочно уехал, обещал вскорости навестить. Врал, будто комнату в городе получает, а с комнатой работу денежную. Может, перееду тогда к нему. Плохо, что несвободен, жена на материке, может нагрянуть в любой день.
В порыве откровенности прачка вспомнила, что прежние ухажеры бывали несамостоятельными, бесхарактерными, вертела ими как хотела, новый не чета прежним.
— Хорошо бы подтолкнуть к разводу, не то годы бегут наперегонки, а я все незамужняя. Еще годик и соглашусь хоть за черта выскочить, не то засмеют — за тридцать, а холостячка…
На столе восседала знакомая бутылка шампанского. Перехватив взгляд Галки, соседка предложила допить остатки. Стоило вытащить пластмассовую пробку, как брызнула пена. Галка отпила пару глотков, зажмурилась от удовольствия: во рту стало сладко, пузырьки защекотали небо. Еще выпила, и все вокруг — стены с потолком, кровати — закружилось.
— В голову ударило? — поняла прачка. — Это с непривычки. Шампанское легко пьется, но потом ноги делает слабыми.
Галка шагнула к кровати, плюхнулась на нее.
Проснулась вечером от пинка в бок.
— Работу проспишь. Умывайся! — приказала соседка. — Прогуляешь — товарки окрысятся, что пришлось твои столики обслуживать.
Как прошла очередная смена, Сорокина не запомнила, навалилась дремота, ноги не желали двигаться, глаза стали слипаться, пришлось присесть в раздаточной, чем развеселила официанток: Мила с Кирой впервые видели молодую подругу выпившей.
— Пить надо в конце смены. Бери с нас пример: днем в рот ни капли, другое дело ночью, когда ресторан пустеет.
Советы Галка не воспринимала, не понимала, что ей говорят. Видя состояние подопечной, Кира с Милой пожалели девушку, взялись сами обслужить ее столики. Когда Сорокина чуть очухалась, вокруг перестало все ходить ходуном, в висках побаливать, увидела под фикусом парня с бородкой. Сразу пропала слабость в ногах, перестало стучать в висках. Сорокина подрулила к знакомому клиенту.
— Здрасьте. Повторить вчерашний заказ?
— Да, — согласился парень и добавил: — Если вас не затруднит.
К отбивной с салатом из квашеной капусты Сорокина добавила бутылочку дефицитной пепси-колы, которую в буфете хранили для важных клиентов.
— Давно покинули Осиповку? Часто вспоминаете село? — спросил парень, когда Галка ставила на стол второе, салат и бутылочку.
Услышав, что интересует клиента, девушка чуть не уронила поднос.
— Я вас еще вчера узнал, — продолжал парень. — В сельском клубе у вас на плечах была цветастая косынка. А вы меня не запомнили, впрочем, это не удивительно: приехали три группы последнего курса, днем выкапывали картошку, вечерами колобродили…
Галка сразу вспомнила, как появились студенты, как вместо танцев под баян кружились под магнитофон. Один студент не отходил от Галки, просил после танцев познакомить с достопримечательностями, не ведал, что Сорокина не лыком шита, на мякине ее не провести, прекрасно знает, к чему приводят прогулки ночами, тем более за селом. Напрягла память, но не вспомнила клиента: прибывших из города для уборки урожая было около пятидесяти, парни все бравые, разговорчивые, не чета осиповским.
— Не забуду ваше озеро, как, несмотря на осень, купались, — продолжал парень. — Однажды при полной луне рвали кувшинки, дарили девушкам, те плели венки…
Галка забыла про строгий приказ никогда не присаживаться к клиентам и плюхнулась напротив парня.
— Как не побоялась ужей? — спросила Сорокина. — Их в озере страсть сколько, однажды чуть не наступила на выводок, от страха похолодела, шевельнуться не могла, чуть не померла на месте.
— Все равно страшно, когда змея касается! В тундре работаете?
— Закончил ветеринарный техникум, прислали лечить оленей, оказывать медпомощь оленеводам. С «Красным чумом» объезжаю бригады, одно плохо: ненцы ждут не меня, а фильмы и грустят, что нет киномеханика.
Стоило услышать про отсутствие специалиста по демонстрации фильмов, как Галка вспомнила, что в Осиповке помогала перематывать пленку, за что бесплатно проходила в зал, как киномеханик привозил с собой внучку, ровесницу Сорокиной, и та показала, как включается аппарат.
— Просил, даже требовал в отделе культуры дать киномеханика, а в ответ: «Нет ни одного свободного, пусть тундровики обходятся радио», — пожаловался парень.
Тут девушку прорвало. Всегда застенчивая с мужской половиной человечества, боящаяся не только с ними первой заговорить, но даже взглянуть, затараторила про то, как радовалась восходам, прилету грачей, сколько знает грибных мест, какая рыба в озере, что за чудо клубни выращивала на огороде. И, не ожидая от себя подобной смелости, попросила нового знакомого после смены проводить до общежития.
— С удовольствием! — обрадовался молодой ветеринар.
Остающиеся до закрытия ресторана часы промелькнули быстро. Галка первой сдала выручку, обещала вымыть посуду завтра, переоделась и выскочила на улицу. Оглянулась и увидела парня, который топтался у столба.
«Пригласи такой танцевать — не отказала бы, а обрадовалась. Такие, как этот, не заливают за воротник, не распускают с девушками руки…» — сбежала с крыльца и поспешила увести ветеринара, чтобы не увидели раздатчица с официантками.
Ветер х и р у с не подгонял, помогая идти, а бил в лица, отчего дышалось с трудом, но Галка этого не замечала, без умолку болтала невесть что — больше про Осиповку — как хорошо в дубраве, где поселилась семейка тетеревов, сколько собирала в лукошко ягод, каким был выпускной в школе вечер. Хотя время было позднее, усталости не чувствовала, спать не хотелось.
Парень в свою очередь поведал, как проходила армейская служба, учеба в техникуме, практика в передвижном зверинце, где вынимал занозу из лапы тигра, лечил простуду у бурого медведя, расстройство желудка у старого льва, не забыл и про нынешнюю работу, что за минувшую весну и идущее к концу лето в выделенном участке тундры в стадах не заболел ни один олень.
Оказалось, что у Галки и парня по имени Олег много общего — оба родились в селах, в Заполярье приехали из желания испытать себя в трудных условиях, еще — что главное, деды воевали в Отечественную, один дошагал до Праги, второй до Польши и умерли почти одновременно от старых ран.
Неожиданно, точно споткнувшись, Олег остановился, взял девушку за плечи. У Сорокиной душа ушла в пятки: никто из парней ни разу не обращался с ней подобным образом, будь на месте ветеринара другой, сбросила бы чужие руки, отчитала, наградила пощечиной. Галка не могла пошевелиться.
— Послушай! — с жаром заговорил Олег. — Не надоело крутиться в ресторане? На Севере работа должна быть соответственно северной, полярной. Бросай ресторан, переходи в «Красный чум» киномехаником — сама говорила, что пленку перематывала, видела, как фильмы демонстрируют, чуть подучишься и станешь кино ненцам крутить!
Не отпуская Галку, захлебываясь словами, Олег рассказал, что «Красный чум» обслуживает кочующих со стадами оленеводов, проводит профилактический медосмотр, при необходимости оказывает помощь людям, но, к счастью, кочующие по тундре не болеют.
— Сколько можно работать среди жующих и пьющих? В селе спросят, кем была на Севере, чему научилась, не ответишь же, что носила тарелки с едой да бутылки. Овладеешь профессией киномеханика, и тебя с распростертыми руками на материке возьмет любой кинотеатр, клуб, Дом культуры!
Галка не умела решать с бухты-барахты, все хорошенько обдумывала, взвешивала «за» и «против». Представила, как предъявит в Осиповке удостоверение киномеханика и председатель с секретаршей, бухгалтером запляшут от радости, что объявился собственный специалист по демонстрации фильмов.
— Согласна! — выдохнула девушка.
Прежде Сорокина видела тундру издали, с окраины Нарьян-Мара, но немало наслушалась о жизни оленеводов, которые во время посещений города никогда не жаловались на трудности, пургу, кровожадных волков, то и дело нападающих на стада.
Настоящую тундру увидела в первый же час поездки, когда сидела за спиной я с о в е я, что значило «хозяин упряжки», на запряженных парой оленей нартах. Следом с киноаппаратурой, походной аптечкой, батареями, газетами, письмами ехал Олег, научившийся вести нарты, управлять оленями.
Сначала Малоземельная тундра показалась скучной, однообразной, серой, где не на чем остановить взгляд, лишь изредка попадались ручьи, холмики, болотца. Но к вечеру Галка стала замечать, что тундра разная, надо лишь хорошенько приглядеться: болотистые низины сменяли ручьи, с растущими по берегу стелющимися по земле ягодами, островками я г е л я — основной пищей оленей.
Галка не просила остановить нарты, чтобы размять затекшие ноги, спину, снять намокший совик — капюшон, м а л и ц у, терпеливо переносила тряскую езду, слушала, как покрикивает погонщик, скрипит под полозьями нестаявший снег, наблюдая, как резво несутся олени, поведя закуржевевшими крупами.
— Усь, пр! — Тыку Явтысий покрикивал на оленей, подстегивал длинным шестом — х о р е е м. Сколько ездовому лет, определить было невозможно — то ли тридцать, то ли все шестьдесят: гладкое, без единой морщины лицо, жесткие, выбивающиеся из-под капюшона черные как смоль волосы. Позже Галка узнала, что Тыку шестьдесят с гаком, служил под Мурманском в морской пехоте, тогда же освоил грамоту и песни, которые нельзя исполнять при женщинах.
Погонщик не оборачивался на сидящую за спиной девушку, молча вел оленей, на вопросы отвечал односложно.
Вокруг, насколько хватало глаз, было пусто и бело. Не верилось, что где-то остались большие и малые города, села, толпы людей, машины. К третьему часу езды Галка стала подремывать, последнее, о чем подумала, было солнце, которое, по рассказам Олега, поздней осенью погаснет, точнее, уйдет за горизонт, уступит место долгой ночи, начнется «время замерзшего моря», за ним «время отела», «месяц падающих рогов», «месяц, когда птицы собираются в стаи».
— Маяк, говорю, — Тыку указал на холме олений череп. — Добрый человек оставил, для тех, кто заблудится, увидит и поймет, где север, где юг, куда дальше идти.
Нарты обогнули холм, понеслись по известной я с о — в е ю дороге, попадая полозьями в ржавые лужи чуть оттаявшего снега, минуя полярные березки, пахнущие клопами кусты багульника, бледно-розовые между камней маки, ползучую иву, лилово-красную камнеломку. Заметно похолодало, пришлось Сорокиной поджать, убрать под подол малицы сшитые шерстью наружу т о б о к и.
Первую остановку сделали ближе к вечеру. Олени стали ворошить мордами снег в поисках ягеля, Тыку проверил крепость полозьев, Галка с Олегом попили горячего чая из термоса, съели по нескольку пирожков с рыбой. Тыку отказался перекусить, сказал, что не голоден.
Подкрепившись, Олег обрадовал, что на пути стойбище Тапседа:
— Я проведу медосмотр, ты порадуешь сеансом, прочтешь в газетах пару статей — проведешь политинформацию. Кстати, какую везем картину?
Галка призналась, что не знает — начало у фильма отсутствует, спросить в кинофикации не удосужилась: в паспорте на фильм указана лишь продолжительность демонстрации. Чтобы бригадир не отчитал за получение бракованной пленки, поинтересовалась:
— Ты давно в тундре?
— Завтра пойдут сто тридцатые сутки, — признался Олег.
— Неужели считаешь каждый прожитый тут день?
Олег не успел ответить — Тыку попросил, пока отдыхают олени, наломать впрок для приготовления обеда плавник.
— Однако много плавника. В других местах совсем нет.
Тыку не договорил, сощурил и без того узкие глаза, всмотрелся в спускающиеся с холма нарты. Подъехав к «Красному чуму», ездовой заговорил, мешая ненецкие слова с русскими, так быстро, что Тыку попросил:
— Не спеши — некого догонять, — послушал сородича и перевел: — Главный в стаде хорх приболел. Ничего не ест, лишь пьет. Скучным стал. Помощь нужна.
Пришлось в маршруте сделать исправление, свернуть к стойбищу со стадом в триста с лишним голов.
Уже не две, а тройка нарт покатила дальше. Впереди, указывая путь, ехал оленевод, то и дело ударяя упряжку, впрочем, серо-коричневые с ветвистыми рогами, покрытые пушистой шерстью олени без хорея знали куда бежать.
Олени то и дело увязали в болотцах, выдирали с чавканьем копыта, не испугались вспорхнувшей перед первыми нартами стайки белых куропаток с черными пятнышками на крыльях.
Галка удивилась: отчего погонщик не стреляет дичь? Тыку словно подслушал мысли девушки:
— Однако куропаток бьют только женщины, мужчины стреляют волков: сначала убивают волчицу, чтоб волк ее не оставил, вторую пулю ему.
Стойбище появилось довольно скоро. на холме, где было сухо, стояли несколько конусообразных чумов — сшитые шкуры держали длинные, собранные в центре шесты.
Стоило «Красному чуму» подняться на холм, как с радостными криками, пританцовывая, навстречу побежали дети, за ними, уже не спеша, две женщины в малицах, то-боках.
— Убрали больного из стада? — спросил Олег.
— Какого больного? — не поняли мальчишки, девочка добавила:
— Нет больных, все здоровы.
Олег с удивлением посмотрел на ненца, который привел в стойбище, и тот, ничуть не смущаясь, признался, что про больного обманул:
— Узнал, что «Красный чум» едет, боялся, что мимо проедет, решил позвать.
— И без вранья к вам бы завернули, — угрюмо ответил Олег.
— Не ругайтесь шибко, — попросил оленевод. — Давно никто не заезжал, вы первые за весну и лето.
Олегу с Галкой ничего не осталось, как сделать непредвиденную остановку. В чуме развесили экран, установили аппаратуру, подключили к движку, и начался сеанс для четырех детишек, трех оленеводов и двух работниц чума — один мужчина остался сторожить стадо, следить, чтобы олени не разбежались.
Пользуясь случаем, перед демонстрацией фильма Олег провел осмотр стада, в первую очередь оленят, которые, в отличие от самок-в а ж е н о к и хорха, были почти ручными, так как после появления на свет жили с людьми в чуме.
Оленевод, который сумел заманить в стойбище, собрался повиниться, но Олег перебил:
— Ладно уж, включу обслуживание вашей бригады в маршрут.
Галка приглядывалась к Тыку, не выдержала и спросила, сколько ему лет?
— Однако много, — признался ездовой. — Родился зимой, когда песец хорошо в капканы шел, шаман в стойбище жил, погоду предсказывал, пургу отводил, в бубен бил — многих от болезней спасал.
— Неужели битье в бубен помогает? — не поверила девушка.
Тыку взял в рот трубку:
— Коль был бы шаман обманщик — выгнали. Хорошо шаманил, ни разу не ошибся. Долго жил, совсем старым умер. Будем ехать, увидишь.
— Кого? — не понял Олег.
— Шамана. Приказал в землю не прятать, на земле оставить.
Олег с Галкой встретились недоуменными взглядами, и ветеринар пожал плечами, дескать, ничего не понятно.
Позавтракав строганиной, чуть поджаренной олениной, выпили круто заваренный чай, отказались от разбавленного спирта и легли голова к голове на почетном для гостей месте близ незатухшей печурки. Галка не спешила уснуть, смотрела на уходящую вверх трубу, виднеющийся кусочек неба, вдыхала кисловатый запах шкур, с трудом верилось, что жизнь круто изменилась: «Расскажи в Осиповке, решат, что вру, назовут лгуньей…».
Низкорослые олени разбивали копытом ледок, бежали с удовольствием — не требовались удары тынзеем по бокам с выпирающими ребрами, — раздували ноздри, ни один в упряжке не показывал усталости. Нарты швыряло на ямках. Под полозьями хрустел снежок. Стоило снять капюшон, как в ушах запел ветер, пришлось вернуть капюшон на место.
Неожиданно Тыку резко остановил оленей, то же самое на второй упряжке сделал Олег.
Ездовой слез с нарт, указал на холмик, где лежал почерневший от таявших снегов, дождей продолговатый ящик, рядом медный котелок, поржавевший нож.
— Шаман тут спит, однако, давно, — объяснил Тыку. — Хороший был, болезни из людей выбивал, от набегов волков стада спасал. В тундре родился, в тундре и остался.
У подножья холма тундровые мыши л е м м и н г и свили гнездо, прорыли норку.
— Где мышь, там ищи песца. Для песца мышь — лучшая еда.
— Но песцы и мыши могут шамана… — начала и осеклась Галка. Тыку понял, что было недоговорено:
— Не будут песцы и мыши шамана есть, когда умер и сюда привезли, керосином ящик намазали.
У ящика на воткнутой в землю сломанной лыжной палке качался колокольчик, под ветром он позванивал звонко и чисто, словно висел на шее оленя, мчащегося под крики ясовея по родной тундре…
Галка подумала, что подобный обычай принят и на Большой земле — на могиле погибшего в полете летчика устанавливают самолетный винт, утонувшего моряка — якорь. Здесь лыжная палка оставлена в надежде, что покойный пожелает пройтись по тундре…
Следующую остановку сделали на месте древнего Пустоозерска — форпоста русского княжества на Севере: служивые люди, стрельцы добирались сюда по Двине, затем волоком до Мезени, дальше сквозь сырой, болотистый лес тайбол, по Печоре. Выезжали, как правило, осенью до ледостава, на место добирались к началу зимы. В Пустоозерске долгие пятнадцать лет провел ссыльный протопоп Аввакум, в земляной яме писал книгу — обо всем этом поведал Олег. Сорокина слушала открыв рот, смотрела широко открытыми глазами на затянутые песком ямы, прогнившие бревна, упавший трухлявый крест и удивлялась познаниям ветеринара…
Тыку, как правило, говорил предельно мало, лишь когда нельзя было промолчать, следовало сообщить нечто важное.
— Однако человек прошел. Налегке — след неглубокий. Спешил, болото не обошел.
Все сведения Тыку узнал по тянущемуся следу лыж и двух палок.
— Из поселка шел. Лыжи не наши, у нас без палок.
Следы по ноздреватому снегу обходили лишь места, где росла морошка, видимо, путник не хотел давить ягоды. Минуло чуть больше получаса, и работники «Красного чума» заприметили точку, которая росла, пока не оказалась лыжником.
— Добрый наст идущему! — произнес Тыку приветствие и получил ответ:
— И вам доброго пути.
Галку подмывало спросить у путника: отчего идет один, неужели не опасается волков? Но вспомнила, что в тундре не любят назойливых, излишне любопытных, и промолчала.
Путник по лицу девушки понял, о чем его хотят спросить.
— Утром оставил стойбище, к вечеру на место прибуду. В Харп иду.
— По пути, садись, — пригласил Тыку.
Парень снял лыжи, присел к Олегу, положив на полозья обутые в высокие, чуть ли не до колен тобоки, поправил на поясе медвежий клык.
— Дед раньше носил, потом отец, теперь моя очередь. Спасает от зверя и болезней.
— Так уж, — не поверил Олег.
Парень тряхнул головой:
— Сколько хожу — ни один волк не нападал, и голодные лисы тоже.
«Мне бы подобный талисман, — пожелала Галка, — впрочем, и без него не встречала хищников и не помню, когда в последний раз температурила».
В отличие от Тыку, парень был разговорчивым, рассказал, что весной вернулся с армейской службы на погранзаставе, собрался работать на звероферме, но как имеющего звание старшего сержанта его назначили профоргом.
— Иду в бригаду собрать взносы, вручить одному оленеводу медаль «Ветеран труда», посоветовать отправить детей на материк в лагерь.
— Сколько человек в бригаде? — спросил Олег.
— Пять, — ответил профсоюзный деятель.
— Из-за пятерых вышел в долгий путь?
— Зачем из-за пятерых? В этой бригаде пять, в другой столько же. Не могут бросить стада, чтоб взносы принести.
Тыку о чем-то спросил парня, и двое заговорили, затем Тыку тихо запел, чтоб ветеринар и киномеханик не оставались в неведении, перевел:
— Про лыжи пою, про братьев легкого ветра, что несутся вперед, но скоро придет отдых и их смажут нерпичьим жиром. Без песни в дороге трудно.
Послушные ездовым оленьи упряжки бежали среди поросших рыжим мхом кочек, приникших к земле карликовых берез. Стоило увидеть новое стойбище, точнее, почувствовав запахи, дым, прибавили ход, зная, что ожидает отдых.
Навстречу а р г и ш у с заливистым лаем бросилась свора собак.
— Не укусят, — успокоил Тыку, — радуются гостям.
Из чумов вышли люди, пригласили почаевничать — так поступали все в тундре. Оставив нарты на Тыку, Галка с Олегом встали на четвереньки, влезли в чум, где стоял запах оленьей шерсти, прелого мха, чая, сала, от печурки веяло жаром, две ненки с почерневшими от копоти лицами кололи ножами поленья, подкладывали щепы в огонь.
Отказаться от угощения значило обидеть хозяев, и гости выпили крепко заваренный чай, вторые кружки не осилили.
Лишь повесили экран, установили аппарат, как встретившийся парень заторопился:
— Дальше идти надо, не близко другая бригада, к началу ночи дойду.
И он надел лыжи, взял палки и ушел собирать членские взносы, уговаривать отправить детей в лагерь.
— Однако весело на Большой земле живут, — после сеанса заметила одна из ненок, другая не согласилась:
— Много неправды в кино. Не бывает, чтоб люди любили и не могли это сказать — нельзя мысли спрятать. Поют и танцуют, а когда же работают? Почему привозите про чужую жизнь, а про нашу ни разу?
Галка попыталась возразить, сказать, что критика не по адресу, не она снимает фильмы, картина индийская, а в Индии много танцуют, поют, что касается отсутствия картин про тундру, то киноработники, по всему, не желают приезжать в край, где полгода ночь, полгода день, царствуют пурга, вьюга с метелями. Последнее вызвало в чуме смех. Сорокина решила в будущем брать для демонстрации картину с более-менее понятным ненцам сюжетом, еще обязательно о животном мире и мультфильм для детей.
Можно было сворачивать аппаратуру, но жена бригадира, принарядившаяся к прибытию долгожданного «Красного чума» в расшитую п а н и ц у, попросила показать фильм еще раз. Ее поддержали женщины, дети, мужчины. Пришлось перемотать пленку, вновь заряжать аппарат, и с маленького экрана в тесный чум снова ворвалась далекая Индия с ее песнями, танцами, жгучими страстями.
После повторного сеанса хозяева стойбища устроили для гостей своеобразный концерт. Под потрескивающий в печке плавник запели довольно слаженно, и Сорокина поняла: ненцы не без таланта, одни вырезают из кости фигурки зверей, другие разрисовывают бивни моржей, третьи поют так, что заслушаешься, напрасно их в прошлом звали «самоеды». К женскому хору присоединились мужчины, на время оставив стадо на помощника, запевала т а л а н г а, самая маленькая в стойбище певунья. Потом был ужин — запеченная оленина, мясо зайца-ушана, рыба сиг и на сладкое вобравшая в себя тепло лета морошка.
Под утро Галка почувствовав возле уха чье-то дыхание, оказалось, во сне к ней прижался Олег. Первым желанием было резко оттолкнуть парня, дать ему пинка, но не шевельнулась, сдержала дыхание, опасаясь разбудить, проститься с чувством, какого прежде не испытывала…
К синему озеру, где стояла новая бригада, «Красный чум» подкатил в полдень. К неописуемому удивлению, никто не вышел встречать, лишь взлохмаченные псы окружили нарты, принялись лаять. Пришлось самим распрягать оленей, без приглашения залезать в чум, где была всего одна женщина.
— Однако здравствуйте, — поздоровался Тыку и за ним Галка с Олегом. — Где муж и другие?
— В стаде, — был ответ, — следят, чтобы новая важенка не пропала.
Галка была наслышана, что олени гибнут от набегов волков, которые стаей задирают телят, утаскивают туши с собой, и спросила:
— Нет, х о р х — на острове живет.
И, продолжая возиться у печки, ненка рассказала, как некий олень-самец минувшей весной покинул стадо, уплыл на заросший вереском островок. Вчера вернулся, затесался в стадо. Попытались заарканить, но одичавший оказался проворным, услышал в воздухе свист кожаного ремня, пригнул голову с ветвистыми рогами и увел на остров красавицу олениху.
— Лучшую важенку потеряли, — сокрушалась ненка. — Мужчины и сын с ружьями караулят, убить обещали, если снова приплывет.
Из-за четвероного похитителя в бригаде было не до сеанса или медосмотра.
Ближе к вечеру стадо пригнали к стойбищу. Оленеводы были мрачны, неразговорчивы, не обрадовались, как бывало, гостям и принялись ругать мальчишку. Не сразу киномеханик и ветеринар поняли, что охочий до молодых важенок хорх снова увел уже не одну, а две оленихи, заарканить — «имать» похитителя не удалось. Один из оленеводов взял оленя на прицел, но сын не позволил выстрелить, отвел ствол винтовки.
— Не будь в школе каникул, нынче бы отвез в интернат, — пригрозил отец, — спросил, почему помешал выстрелить, а он: «Жалко, больно красивый хорх, и плыл красиво».
Галка представила, как одичавший олень плывет, раздувая ноздри, наперерез волнам, а следом, не отставая, плывут две важенки. Еще подумала: «Вдруг Олег, как тот олень, позовет не только кочевать по тундре, а навсегда тут остаться?» Ответ нашелся сразу: «Поплыла бы за ним, точнее, пошла, куда ни повел».
После очередной годовщины свадьбы, проводив гостей, Галя с Олегом усаживались рядком на диване под висящими на стене оленьими рогами. Между ними пристраивалась дочь, которая не в первый раз просила рассказать про «Красный чум», поездки родителей по Малоземельной тундре.
Галя умалчивала, что одно время носилась с подносом в заполненном запахами жареного, вареного ресторане, носящем громкое название «Северное сияние».
Разное судачат в поселке Чардым о гибели старого Антропова. Одни говорят, что тот почувствовал конец своего земного существования и не захотел прощаться с дорогим ему морем, ушел в пучину. Другие болтают, что рыбак, нареченный в поселке Молчуном, просто выжил из ума, погиб по глупости, забыв, что с морем плохи шутки.
Вспоминая Антропова, люди невольно косятся на Ванятку Ветлина, кому, без сомнения, известны подробности гибели хмурого рыбака. Только Ванятка ничего не рассказывает. Стоит людям начать расспрашивать — сразу уходит к сараю. Когда же поднимается шторм, идет к лодке-бударке, что лежит на песке, подставив небу смолянистое дно, и долго-долго смотрит туда, где море в непогоду встречается с небом и трудно различать, где небосвод, а где водная стихия, настолько они сливаются. Белесые брови Ванятки сходятся на переносице, губы вздрагивают. Будто шепчет что-то мальчишка, разговаривает то ли с гремящим морем, то ли с утонувшим в ненастье стариком.
— Шел бы под кров, не то промокнешь как цуцик, — советуют люди.
Ванятка отмалчивается. Ветер треплет вихор, пролезает под рубашку, покрывает тело гусиной кожей. мальчишка продолжает сидеть, обхватив руками острые колени, на днище немало повидавшей рыбачьей бударки, не отрываясь глядит на закипающее крутым варевом море…
На узкой косе, где разбрелись мазанки поселка Чардым, о Молчуне знали крайне мало. Поговаривали, что прежде жил вдали от моря, в войну где-то поблизости погиб его единственный сын — матрос десантного батальона, но где могила неизвестно. Старик приехал в середине пятидесятых годов, первое время работал в совхозе плотником, затем кладовщиком в магазине, почтальоном, а последние годы сторожил хозяйство рыболовецких бригад, приглядывал, чтобы не умыкнули сохнущие сети, лодки, больше футбольного мяча поплавки, моторы, весла и паруса.
Поселившись в сарае, обстирывал себя, варил на керогазе похлебку, жарил рыбу. Спиртного не употреблял, мало того, ненавидел выпивох. Как-то перекупил у растратившего все отпускные курортника транзисторный приемник и по ночам крутил шкалу настройки, гулял по волнам эфира, вслушивался в мелодии и голоса. Раз в месяц шел на почту за пенсией — она была хорошим подспорьем к небогатой зарплате сторожа, закупал впрок крупу, макароны, сахар. В разговор без особой нужды не вступал, при необходимости выдавливал пару-другую слов и вновь уходил в себя — угловатый, сухопарый, с исколотым оспинками лицом.
Старик сторонился всех: ни поговорить по душам, ни распить с таким чекушку. Детвора побаивалась, и для этого имелись веские причины: Молчун не подпускал к сараю и лодке, не позволял присесть к костру, а стоило малышу заглянуть в корзину с уловом, хватал за шиворот, больно щелкал пальцами по затылку, гнал от сарая, где были нары с постелью, на стенах обои и репродукция из журналов, в окошко выходила труба печурки, которая топилась в холодное время года.
Однажды любопытные мальчишки осмелели и припали лбами к щелям сарая. Но кроме стола, топчана, неумело залатанной фуфайки на гвозде, пары резиновых сапог ничего не высмотрели.
— На прошлой неделе тут кошка мяукала, да страшно как, — сказал один пацаненок. — Будто каленым железом пытали иль за хвост к потолку повесили.
Другой мальчишка добавил:
— Как есть настоящий колдун. Такие, мамка сказывала, порчу напускают и на человека, и на скотину.
Ванятка Ветлин остановил ровесников:
— Хватит напраслину наговаривать! То не кошка в сарае кричала, а радио говорило. А всякие колдуны давно перевелись, остались лишь в сказках.
Мальчишки заспорили и сошлись, что от Молчуна надо держаться подальше. Лопоухий Петька Воркутной решил продемонстрировать смелость, не слушая предостережений, шагнул к сараю, дернул ручку двери и нос к носу оказался с Молчуном.
Петька убрал голову в плечи, коленки задрожали мелко-мелко. Старик схватил непрошеного гостя за ухо скрюченными, черными от вара пальцами, глянул в перепуганные глаза и отпустил перетрусившего не на шутку пацана, и тот без оглядки припустился бежать в поселок, где нажаловался матери, что Молчун чуть не придушил.
Воркутная всплеснула руками, разразилась многоэтажным ругательством в адрес старого изверга-детоубийцы и ринулась в контору. Стукнула по столу начальника кулаком, потребовала арестовать сторожа, отдать под суд, иначе начальник сам сядет на скамью подсудимых как потворщик преступника, а поселковый милиционер лишится погон.
Вызвали для разъяснения Антропова. Но стоило старику подняться на крыльцо, отворить дверь, как Петька спрятался за спину матери, признался, что Молчун пальцем не тронул.
Сторож ушел, не обращая внимания на увязавшуюся и норовившую куснуть за сапог собачонку. Возле выгоревшего под солнцем скверика с гранитным памятником погибшим в войну десантниками стянул с головы фуражку — со стороны можно было подумать, что Молчуну жарко в головном уборе, а возле памятника приубавил шаг по причине слабости в ногах или жмущих сапог…
В тот вечер рыбаки явились на причал угрюмыми. Не перебрасываясь, как обычно, словами, шутками, уперлись в борта лодок, протащили бударки по песку, спихнули в море. Уселись на привычных местах, поставили мачту с парусом, установили мотор, не забыли взять на всякий случай две пары весел.
Отплыв, не сразу заговорили:
— Неужто ни одного родственника не осталось?
— Без отца пацаненок рос, теперь круглый сирота: мать-то детдомовкой была.
— Что врачи сказали?
— Старой болезнью маялась, недосуг было лечиться, сына поднимала, трудилась за троих, чтоб за квартиру платить, не голодать, одетыми ходить, сыну ни в чем не было отказу.
— Вдовья жизнь, известно, не сахар…
— Мужа ее покойного не помню, а она живая перед глазами стоит…
— Во второй класс пойдет осенью…
— Теперь не в нашу школу, а в детдомовскую…
Горькую детдомовскую судьбу обсуждали и вернувшись с уловом.
Молчун стоял неподалеку и, когда понял, о ком идет разговор, заторопился в поселок, забыв навесить на дверь сарая замок.
В конторе старик положил на стол пенсионную сберкнижку:
— Семь тыщ в месяц выходит, еще кой-чего собрал на случай болезни или немощи, это не считая зарплаты сторожа. Так что прокормлю, и раздетым ходить не станет.
— Вы про что? — перебили Молчуна.
Старик кашлянул в кулак:
— Про Ванятку толкую. Незачем в детдом отправлять, мне оставьте.
Молчуну ответили, что где, с кем отныне жить сироте, решат в городе в отделе народного образования, а пока мальчонка может остаться в поселке у Молчуна, то есть гражданина Антропова. Решение пришлось всем по нраву — и старику, и Ванятке, и жителям поселка. Сошлись во мнении, что в Чардыме мальчишке будет лучше, нежели в холодных стенах сиротского дома: всем миром поднимут Ванятку.
Приближалась очередная путина, долго ломать головы над судьбой малолетнего чардымца было недосуг, и Ванятку до решения районо оставили с Молчуном, надеясь, что это пойдет обоим на пользу: угрюмый старик оттает с ребенком, Ванятка останется в родных местах…
Молчун привел сироту к сараю и начал шпаклевать дно бударки. Ощупал дно, костяшками пальцев выбил дробь, прислушался: лодка «пропела» в разных местах по-разному: там, где требовалось залить щель взваром и смолой, — дребезжащим голосом, где доски пригнаны крепко, — по-совиному глухо.
Ванятка переминался с ноги на ногу, шмыгал носом и не знал, как поступить — то ли бежать стремглав в поселок, то ли смириться с судьбой, остаться с Молчуном. И решил: убежать никогда не поздно, надо обождать с побегом, поглядеть, как будет.
Вечером старик растопил печурку, насыпал в кастрюлю крупы и поставил на огонь. Когда забулькала, переложил перловую кашу в миску с заранее изжаренной скумбрией, подлил масла, отрезал ломоть хлеба, пододвинул все Ванятке и ушел снимать с шестов сеть.
Ванятка с жадностью — целый день во рту крошки не было — уплетал кашу и думал: «Чего сам не ел? Иль не голодный?»
Спать нового жильца сарая хозяин уложил на жесткий и скрипучий топчан, сам лег с краю, оттеснив мальчишку к стене с журнальными вырезками и выцветшей от времени фотографией бравого моряка.
Уставший от связанных с похоронами матери волнений, близкого знакомства с Молчуном, Ванятка уснул быстро и проснулся, когда в оконце заглядывал бледный рассвет. Приподнял с подушки голову и встретился с устремленным бесцветным взглядом — старик смотрел пристально, не мигая, словно желал увидеть в сироте суть, душу распознать, какое имеет сердце — доброе или злое, завистливое.
Мальчишка подтянул к подбородку колени, закрылся с головой сшитым из разноцветных лоскутков одеялом и сдержал дыхание. Когда спустя какое-то время рискнул высунуться, Молчуна рядом уже не было, старик гремел в углу ведром, на Ванятку не обращал внимания.
И потянулись для Ванятки однообразные, поэтому скучные дни. Вечерами Молчун уходил в море ставить сети, по утрам выбирал их, нагружал дно бударки уловом — когда богатым, когда не ахти каким. Рыбу увозил в ближайший город и продавал на рынке. Ванятка тем временем следил, чтобы ветер ненароком не свалил шесты с сетями, мальчишки не растаскивали поплавки, не набивали карманы кусками остывшего вара, который жевали до боли в деснах, чистил песком кастрюли с чайником, нанизывал на шнур и вывешивал сушить рыбу.
С рынка Молчун привозил пряники, сдобные булки, кружок колбасы, сосиски, кулек конфет. Увидев сияющие кастрюли и чайник, хмыкал и принимался чинить сети.
Старый и малый жили мирно, но, как оказалось, до поры до времени. Первое столкновение произошло однажды в полдень, когда старик впервые допустил мальчишку до серьезной работы — поручил привязать к сетям грузила. Обрадованный взрослому делу, Ванятка заторопился завершить работу и заслужить одобрение, но вместо похвалы Молчун больно надрал помощнику уши.
— За что? — в глазах Ванятки застыли слезы.
Старик тряхнул сети, и пара грузил оторвалась, другие еле держались и при забросе в море ушли бы на дно.
«В долгу не останусь! Припомню все-все!» — решил Ванятка и, когда получил приказ набрать в жбан колодезной воды, чтоб взять в море, налил морскую. Каверзу Молчун узнал в море, вдали от берега, долго отплевывался и, вернувшись, так покрутил мальчишке ухо, что оно стало краснее вареной свеклы.
С того дня между двумя жителями сарая пошла молчаливая война, конца-края ей было не видно. Ванятка стойко переносил все наказания, зная, что жаловаться не стоит, иначе отвезут в детский дом, лучше терпеть, прятать обиду в себе: «Вырасту, стану бригадиром или начальником и выгоню Молчуна из сторожей, а сарай спалю».
— Завтра первое сентября, — как-то уплетая уху, напомнил мальчишка.
Молчун работал ложкой, не поднимал от миски глаз.
— В школу, говорю, снова идти, — добавил Ванятка.
Старик облизнул ложку, полез в карман, достал перетянутый резинкой бумажник. Отсчитал три тысячи, положил рядом с мальчишкой.
— Купишь учебники и тетради. Еще портфель аль ранец присмотри, и все, что потребуется. Обувку и куртку в городе присмотрю, надо лишь размер с тебя снять…
Говорил Молчун, растягивая слова, точно совершал непосильную работу, последние произнес отрывисто.
В школу Ванятка ушел без провожатого и, когда вернулся, увидел на столе коробку цветных карандашей, краски с кисточками, пару ручек, ластик. Не поблагодарил и хмыкнул, совсем как делал старик.
В тот же вечер Молчун впервые взял Ванятку с собой в море. Уперся впалой грудью в борт, столкнул лодку в воду, и когда на бударку набежала первая волна, поднял Ванятку, усадил к веслам.
— Коль в Чардыме на свет народился, знать, умеешь грести, в воду глубоко не зарывайся.
Мальчишка собрался напомнить о задувшем недобром ветре-выгоне, спросить: отчего рыбаки остаются на берегу, а они идут ставить сети? Промолчал и остервенело — назло старику, всадил весла в воду, погреб к мутному горизонту, где море и небо сходились в дождевой пелене и глухой мгле.
Пока мальчишка греб, Молчун перебирал сети, изредка поглядывал на море, наконец приказал сушить весла.
Первая завязь сетей ушла в глубину, вторую из рук чуть не вырвал и не запутал порыв ветра, следующие завязи ветер швырнул обратно в бударку — казалось, вспучившееся море не желало ничего принимать.
Можно было двигаться обратно, но выгон задул сильнее, волны выросли, набросились на лодку, и она зашаталась, заохала, словно предчувствуя, что не совладать с непогодой, в разбушевавшемся море она скорлупка.
Молчун запрокинул голову, всмотрелся в тяжелое небо, надеясь усмотреть в нем звезды и по ним отыскать путь домой. Но небо чернело с минуты на минуту, свет звезд не пробивался сквозь тучи. А тут еще жалобнее заскрипела подбрасываемая волнами хрупкая лодка.
На днище прибывала забортная вода…
Знай Молчун, что случится недоброе, окажется чуть ли не в центре шторма, понадеявшись, что до непогоды успеет вернуться, не взял бы ребенка. Впрочем, нет, желал, чтоб пацан узнал, каким бывает море, что чувствует человек, оказавшись среди стихии — испытать такое, пересилить в себе страх полезно каждому, тем более начинающему жить. Ветер старик считал быстро возникающим и быстро утихомиривающимся, понадеялся, что выгону гулять недолго, а вышло…
Ванятка бросил весла, сидел на дне бударки, чуть ли не по грудь в воде, и широко распахнутыми глазами, моля о спасении, смотрел на Молчуна.
Старик взялся за весла и погреб к берегу, с придыхом произнося при каждом рывке «э-эх! э-э-эх!».
Влажный и ставший тяжелым ветер давил на грудь, отчего Ванятка стал задыхаться, беспомощно, как очутившаяся на суше рыба, открыл рот, отплевывался забортной соленой водой.
— Ложись! — приказал старик и, когда мальчишка не послушался, повалил и сам лег рядом, оттеснив к борту: точно так, как спали на топчане.
— М-амка! — Ванятка захлебывался до тошноты горькой водой, вцепился в старика, а тот стал привязывать мальчонку к сиденью якорной цепью. Затем встал, и Ванятка увидел, как у старика дернулись губы, собравшись в кривую улыбку.
Словно благословляя ребенка, желая ему напоследок долгой и счастливой жизни, Молчун что-то невнятно проговорил и шагнул за борт, сразу пропав в суматошной, ревущей мгле. А полегчавшая бударка вздохнула легко и свободно…
Утром, когда развиднелось, море утихло и в небе запылала алая зорька, Ванятка очнулся на руках рыбаков.
Привстал и увидел, что по морю бредут, натыкаясь друг на друга, молчаливые волны, над ними носятся стаи нырков, выискивая выброшенную из глубин рыбу.
— Где старик? — спросили мальчишку. В ответ Ванятка заплакал в голос. А успокоившись, твердо сказал, что из Чардыма не уедет, коль отправят в детдом, сбежит и вернется.
— Как жить станешь? Ведь от гордости ничьей помощи не примешь, — покачал головой участковый милиционер, а директор рыбсовхоза предложил оформить мальчишке пенсию за умершую мать с доплатой за охрану, починку сетей, поплавков. Так и порешили.
Каждый раз перед штормом, когда по морю начинает бежать мелкая рябь, солнце прячется за тучами, от ветра свистит в ушах, видят Ваню Ветлина на высохшей под солнцем старой бударке близ сарая. Мальчишка не отрываясь смотрит туда, где море встречается с небом.
Как правило, после очередного рейса в Архангельск Степан Вислов прощался с экипажем, шел к цветочному киоску, приобретал тройку гвоздик, затем заглядывал в окошечко кассы. Оля несказанно радовалась, увидев радиста, просила обождать окончания ее смены. Степан выходил из здания аэровокзала, выкуривал пару сигарет, читал на стенде вывешенную газету, выпивал в киоске стакан яблочного сока. Наконец выбегала кассирша, не стесняясь посторонних, повисала на бортрадисте, чмокала в щеку.
— Куда же еще? — вопросом на вопрос отвечал Степан.
В автобусе по дороге в город оба без умолку болтали, не в силах наговориться, будто не виделись целую вечность. Выйдя на нужной остановке, Степан обнимал девушку за плечи — узкие, покатые, хрупкие, они прощупывались под форменной курткой. Наклонялся, целовал. Оля говорила:
— Отчего такой нетерпеливый? Ведешь себя точно старшеклассник. Дома нацелуешься.
На втором этаже барачного типа здания Ольга доставала ключ, шепотом предупреждала:
— Пожалуйста, не топай, как медведь, иначе разбудишь мою мымру, тогда обоим не поздоровится: меня обзовет гулящей без стыда и совести, забывшей о девичьей чести, тебя — блудливым котом.
— Когда перестанешь бояться соседки? Поменяла бы жилье — и дело с концом.
— С удовольствием — натерпелась вдоволь, но она и слышать не желает о переезде.
На цыпочках, чтобы не скрипнули половицы, двое пробирались по тесной передней, опасаясь ненароком свалить со стены неизвестно каким образом попавшие в бездетную квартиру детские санки.
Оказавшись в комнатке, где на окнах свисали тюлевые занавески, Степан успокоенно вздыхал. Ольга сбрасывала куртку, в полумраке у кассирши, как у кошки, горели глаза.
— Свет зажигать не будем? Пусть думают, что я еще на работе.
Степан доставал сигареты, просил не забыть разбудить утром ровно в пять, но Ольга пугала:
— А вот и не разбужу соню! За опоздание на рейс попрут из авиации с треском, никакие оправдания не помогут, останешься на жительство в Архангельске, пойдешь в управдомы или радиомеханики!
Так бывало в каждый прилет Вислова в северный город, когда экипаж уходил в гостиницу летного состава, а бортрадист спешил к кассирше. Проявляя мужскую солидарность, Степан предложил командиру познакомить с холостой подружкой кассирши, но получил отказ:
— У меня дома две любимые женщины — жена с дочкой.
Ольга прижималась к Степану, привставала на цыпочки, что-то шептала в ухо. Следовало также проявить нежность, но Степан от рождения был малоразговорчив, больше слушал других, нежели говорил сам.
— Будешь ужинать? — девушка забывала про соседку, которая, несмотря на позднее время, не прислушивалась за стеной, а утром, столкнувшись с кассиршей на кухне, прочтет мораль, пристыдит за привод мужчины. Доказывать, что со Степаном не интрижка, а настоящее чувство — напрасное дело, соседка презирала кассиршу, в то же время завидовала ее молодости, способности нравиться мужчинам…
Степан крепче обнял Ольгу, подумал, что с ней забывают все неурядицы по службе, отдыхает душой и телом лучше, чем в профилактории, чувствует себя мужчиной, за время разлуки соскучился по всегда внимательной и ласковой к нему кассирше. Экипаж догадывался, что во время стоянки в Архангельске бортрадист ночует не у родственников, шутя спрашивали о даме сердца и не получали ответа.
Ольга предложила поужинать, но Степан отказался, открыл форточку и метко выпустил на улицу сигаретный дым. Подумал, что Ольга снова увела к себе, а он безропотно согласился. Впрочем, почему «увела»? Он пришел сам, насильно никто не тащил, при подлете к Архангельску думал про Ольгу: как встретит, как попадет в ее коммуналку со строгой за стеной одинокой, как и Оля, соседкой…
Познакомились два месяца назад, когда Архангельск закрыли по метеоусловиям. Ольга ничего не требовала, не скрывая от других кассирш связь, радовалась появлению Вислова с рейса Петербург — Архангельск — Нарьян-Мар, увозила к себе, побеждая страх перед соседкой, старой девой…
Когда однажды командир экипажа увидел, как Вислов встретился с кассиршей, а та заботливо, очень по-матерински поправляла у радиста на шее шарф, сказал:
— Не знаю, как ты, а она тебя сильно любит. На влюбленных у меня глаз наметанный. Такие, как эта, бывают отличными женами: будешь дураком, коль упустишь.
Город за окном спал или готовился ко сну. В доме напротив горело лишь одно окно, другие слепо смотрели во двор.
— Свет зажигать не будем, — знакомо произнесла Ольга.
Степан вспомнил наставления командира: «Одумаешься — будет поздно». Подумал, что хорошо, что Ольга этого не слышала, не то потянула бы в загс, что делали другие знакомые девушки, видя в Вислове выгодного жениха, затем мужа.
— Если просплю, придется на своих двоих к аэродрому бежать, — сказал Степан и выбросил окурок в форточку.
— Опоздаешь на рейс — перейдешь работать почтальоном! — засмеялась Ольга.
Безлюдные в ранний час улицы казались шире и длиннее, нежели днем, когда по ним взад и вперед сновали люди, машины.
За универмагом Вислов свернул на площадь и увидел, что аэропортовский автобус делает разворот. Степан замахал руками, припустился вдогонку автобусу, и тот притормозил, гостеприимно распахнул дверцу. Степан влетел в автобус, плюхнулся на сидение рядом с Жилиным.
— И я в твои годы опаздывал, — глубокомысленно заметил штурман и подмигнул заполнившим автобус работникам аэропорта. — Тоже ночи были короткими, все никак во время не укладывался. Это только у нас железный график, а в любви его нет и быть не может — в любви все происходит без графика.
Вокруг засмеялись, и Вислову пришлось отшучиваться.
До заполярного Нарьян-Мара летели больше трех часов. Пассажиры вначале жаловались на холод в салоне, кутались в воротники, не снимали перчаток, но когда включили отопление и стало почти нечем дышать, хором зажаловались на возникшую парилку.
Под самолетом проносилась грустная тундра, где делала первые робкие шаги короткая весна. Изредка появлялись болота с чахлыми деревцами, полоски замерзших речушек, впадающих в Печору.
Степан слушал в наушниках эфир и вспоминал, как над ним подшучивал экипаж, зная, с кем в Архангельске встречается бортрадист, отчего не ночует в ведомственной гостинице. «И командир, и штурман лезут в душу с советами, будто без них не смогу сам разобраться в личной жизни. С Ольгой во всем честен — ничего не обещаю, да она и не просит, не пытается захомутать. Экипаж считает, что вожу девушку за нос, осуждает…»
В наушниках, перекрывая другие шумы, радиопомехи, послышались знакомые позывные.
— Ненцы просят поторопиться, погода у них шалит, характер показывает, опасаются, что при пурге мы обратно вернемся, — доложил командиру Вислов.
— Успеем, — невозмутимо ответил Глебов, всматриваясь в приборную доску.
— Как-нибудь, не впервые, — добавил Жилин, третий член экипажа смешливый Юркин сказал:
— Раз идет пурга, знать, нам загорать.
Пургой в Нарьян-Маре и не пахло — небо было чистым, сквозь облака несмело светило солнце, не уходящее с небес до осени, но Жилин, как заправский морской волк, намочил во рту указательный палец, поднял его и изрек:
— Как пить дать, сидеть тут, чтоб меня женщины не любили.
— Не каркай! — потребовал Глебов и всмотрелся в небо.
— Могу на спор пойти, — Жилин заломил на затылок фуражку. — Ставлю дюжину пива. — Видя, что товарищи не прореагировали на предложение, обиделся: — Когда погода сабантуй справляет, я ни при чем.
Штурман обладал удивительной способностью ни при каких обстоятельствах не терять присутствия духа. Когда удивлялись его вечному спокойствию, ссылался на крепкие нервы, на что Глебов возражал:
— Не нервы имеешь железные, а кожу крокодилью, таких, как ты, ничем не прошибить, ни горем, ни радостью.
Жилин смеялся, советовал товарищам принимать витамины, пить бром, иначе с расшатанными нервишками попрут из авиации.
На этот раз, говоря о наступлении нелетной погоды, Жилин как в воду глядел: не успел экипаж начать готовиться к обратному рейсу, как метеорологи закрыли аэропорт, пришлось зачехлять моторы.
— Ну, что я говорил? — спросил Жилин, ему ничего не ответили, экипаж молча дошагал до дома приезжих, солидно именуемого гостиницей «Заполярной» горкомхоза, вселился в четырехместный плохо протопленный номер. Жилин попытался улучшить мрачное у товарищей настроение, напомнил, что пусть шалит погода, зато зарплата идет.
— Я Ненецкий край изучил, как характер тещи, все параллели-меридианы на зуб попробовал. Нюх, что у борзой, на погоду — отлеживать тут бока больше суток.
Все решили, что Жилин вновь треплется, но наутро все крыши, деревянный тротуар заполнили сугробы, небо стало беспросветным, облака с тучами опустились к земле, касаясь телевизионных антенн и печных труб.
— Что я говорил? — спросил Жилин. — Меня интуиция ни разу не подводила. В небесной канцелярии пошла ревизия.
Облаков было так много, и были они настолько густы, что заполнили все небо. Жилин обернулся к самому молодому в экипаже — Степану Вислову:
— Шагать тебе, Степочка, в магазин за сугревом. Спирт не бери, возьми церковный кагор, пару бутылок.
За дверями гостиницы Степан потоптался на крыльце, затем двинулся в продуктовый магазин, где на полках соседствовали бруски масла, зубная паста, флаконы одеколона, галантерея, колбаса, книги в потускневших обложках, резиновые сапоги, банки болгарского перца. «Удобно: зашел и разом купил все, что надо», — подумал Вислов.
Прижимая к груди кулек, где кроме бутылок лежали хлеб, консервы, Степан собрался уже покинуть магазин, как увидел вазу с лимонами. Перехватив взгляд летчика, продавщица сказала:
— Не советую брать. За зиму их морозом прихватило, с виду ничего, а на деле ни вкуса, ни запаха, только название, что лимоны.
На улице стояла запряженная в нарты четверка оленей, они шевелили ноздрями, мотали головами с разветвленными рогами, печально посматривали на дверь магазина, дожидаясь погонщика.
Голос из радиодинамика на столбе сообщил, что на Усть-Усе затор, вода прибывает в сутки на 17 сантиметров, на Щелья-Юре подвижка льда, разводья, на Кожве средний ледоход.
«А на Волге давно купаются, на бахчах поспевают арбузы…» — поежился на ветру Степан.
К возвращению радиста в гостинице успели подготовиться: на стол выставили полученные у дежурной стаканы, пару тарелок.
— На повестке один вопрос: обмытие встречи с Ненецким краем. Возражений нет? Принято единогласно! — Жилин взвесил на ладони бутылку, ловким ударом по днищу выбил пробку, глаза у штурмана заблестели: — Жаль, рейс впереди, не то бы не сироп пили, а божественный «спи-ритус вини». Разбавишь его заваркой — из пол-литра получишь литр, по цвету, что французский коньяк. В других краях спиртик лишь в медицине употребляют, а тут свободно торгуют. — Жилин разлил портвейн. — Без крепкого напитка в этой дыре подохли бы, как клопы. Ну, рванем!
Вислову достался стаканчик для бритья. Пить не хотелось, но, чтобы не обидеть экипаж, смочил губы.
— Спирт запивают, как правило, чистой водичкой из крана, — продолжал Жилин. — Не советую пивом, иначе сразу опьянеешь; ноги отяжелеют, голова закружится, все вокруг затуманится, дурным станешь…
Незаметно от товарищей Степан прилег, накрыл голову второй подушкой, чтоб стихли голоса, особенно неугомонного Жилина. Представил, как штурман передвигает на столе, словно шахматные фигуры, стаканы, лохматит на затылке волосы и заливает, как в метель однажды чуть не заблудился, когда возвращался от знакомого рыбака. «Трепло, хлебом не корми, дай похвастаться силой воли», — подумал Степан и отвернулся к стене.
Проснулся неожиданно, точно толкнули в бок. Не сразу сообразил, где находится. Увидел голую гостиничную стену, куски сыра, хлеба, пустые бутылки на столе. Экипажа в комнате не было.
«Неужто побежали в магазин за добавкой? Коль перепьют, не пустят в рейс».
Чтобы проститься с сонливостью, рывком поднялся с кровати, подпрыгнул, коснулся рукой потолка. Одернул китель, поправил съехавший набок галстук. Взглянул на часы и присвистнул: стрелки показывали шесть вечера. «А казалось, спал пяток минут!»
За окном из-за низких облаков невидимое солнце светило равнодушно и холодно, не желало, как в южных широтах, уползать на ночь за горизонт, опускать на землю мрак.
Экипажа не было ни в холле у телевизора, ни в буфете. «Разбрелись по дамам сердца? Выходит, не у одного меня имеется на маршруте зазноба».
Возле администраторши на стуле дремал некто в неуклюжих, не по росту больших резиновых сапогах с ботфортами. Перехватив взгляд летчика, дородная администраторша сказала:
— Прямо из тундры, укачало на нартах.
Человек приподнял голову, и на Вислова уставилась девушка, почти ребенок, с розовыми, как у младенца, щеками, такими же мочками ушей.
— Простите, что разбудил, — смутился Вислов. — Ей-богу, не хотел нарушать сон.
— Не винитесь, я уже выспалась. — Девушка потерла щеку, на которой отпечаталась пуговица с прорезиненного плаща. — Научилась спать на ходу в нартах.
— Отчего в коридоре? Нет мест?
— Есть, только там сильная половина человечества. Еле уговорила Павлика отоспаться в нормальных условиях, не беспокоиться за меня. Павлик, хоть и мужчина, совершенно не приспособлен к бытовым неудобствам. Павлик по рыцарской логике считает, что нельзя даму оставлять, а самому блаженствовать на кровати с подушкой, одеялом…
Девушка с неподдельным удивлением посмотрела на Вислова, словно все на белом свете, тем более в гостинице, обязаны знать Павлика.
— Если не освободится место, где рассчитываете провести ночь? — еще спросил бортрадист.
— Обещали поселить в кабинете директора после конца рабочего дня, могли и раньше, но директор с бухгалтером составляют какой-то отчет. Вы не беспокойтесь: за практику я привыкла к неурядицам, спать в палатке на шкурах, на нартах или в малице у костра. Уже три недели в тундре, получим продукты, заберем почту и назад. Во время одной стоянки удрал головной олень, упряжка не пожелала без него продолжать путь, пришлось долго ловить, потом запрягать — тащим его, а он упирается!
— Помирали от смеха? — предположил Вислов.
Кричали до хрипоты, пока толкали нарты, вспотели.
— Идемте, помогу уснуть не на стуле, а по-человечески.
— Никуда не денется.
Девушка подчинилась повелительному тону, безропотно пошла за Степаном. В занимаемом экипажем номере бортрадист указал на свою кровать:
— Вы не олень, точнее, не олениха, чтобы спать сидя или стоя.
— Олени спят лежа, — поправила девушка и попросила: — Не уходите.
— Хотите, чтоб охранял вас?
— Нет, я выспалась. А Павлик настоящий соня, в конце маршрута клевал носом, видно, укачало на нартах, в гостинице, стоило получить место, уснул как убитый. Сначала не желал оставлять меня, самому блаженствовать на кровати, от которой за время практики отвыкли. Я в ответ: «Женщины выносливее мужчин, можем дольше вас голодать, легче переносим холод, жажду».
— При чем голод и жажда?
— Пришлось питаться ягодами и кипятком, когда мешок с продуктами утопили в озере, — призналась девушка, вылезая из жесткого, точно из жести плаща, скидывая сапоги. — Павлик и тут проявил характер: не жаловался, стойко переносил неурядицу, предложил сварить ягоды: догадывалась, что он силен духом, не чета хлюпикам, но вновь приятно удивил силой воли, удостоверилась, что он особенный.
— Догадываюсь, что не вы, а он утопил провиант. Какой же «особенный»?
Глаза девушки округлились, студентка шагнула к Волкову, выкрикнула ему в лицо:
— Да, особенный! Лучше всех! Ничуть не виноват, что мешок утонул! Кто знал, что олени перевернут нарты именно на переправе? Любой другой на его месте захныкал, запаниковал, что остались без сухарей, строганины, заварки, крупы, а он разделся и ну нырять, и это при минусовой температуре! Вы бы так не смогли!
— Точно, не смог, — согласился бортрадист.
— А Павлик нырнул, и не один раз. Не важно, что не достал мешок, ерунда, что чуть не схватил простуду! Счастье, что не заболел и мы доехали до города, иначе бы сняли с производственной практики, отправили на Большую землю и не получила зачета!
«На кого учатся? — подумал Вислов. — На геологов, которые ищут нефть, или на ветеринаров, следящих за здоровьем оленьего поголовья?»
— По вашему виду и, главное, тону понимаю, что о Павлике думаете плохо. И мама не устает повторять: «Какой из него муж? Пропадешь с таким тюхтей». Разве мужа выбирают по наличию спортивного разряда? Да, Павлик не тяжелоатлет, внешне совсем не герой. Руководитель практики не советовал ему ехать в тундру, считая, что он не выдержит трудностей, но Павлик оказался выносливее многих — после того как искупался, даже не чихал и не кашлял. Знаете, сколько он знает? Больше любого не только на нашем курсе, а во всем институте. Про таких, как он, говорят «ума палата». Все студенты идут к нему за помощью в написании курсовых. А когда ко мне стали приставать на улице, вступился, полез на обидчиков с кулаками — неважно, что подбили глаз, пару шишек наставили, главное, показал характер. Одно плохо: любит вступать в споры, а переспорить его невозможно. Последние километры до города на ногах не стоял, пришлось уложить на нарты, накрыть оленьей шкурой, самой погонять олешек: хорошо, что впереди правил нартами Вылко, ехала по его следу, старалась объезжать кочки, чтобы не разбудить Павлика…
Вислов слушал и удивлялся: сколько можно болтать про Павлика, расписывать его? Хорошо бы увидеть эту личность.
— Еще настоящий джентльмен: в первое же наше утро в тундре встал ранехонько и принес невесть где раздобытые маки, не пахнущие, но все равно красивые. Очень заботливый и упрямый. Я ему: «Иди в номер отсыпаться», а он: «Это безнравственно бросать тебя»…
Вислов слушал и удивлялся:
«Кто он ей, этот Павлик? Муж, жених. »
Послушать приехавшую на практику в Малоземельную тундру, выходило, что ее Павлик способен на самые решительные поступки, начитан, много знает и умеет, одним словом, мечта любой девушки, пример всему мужскому сословию.
С опозданием Вислов вспомнил, что следует прибрать в номере, сгреб со стола грязную посуду, собрал корки, остатки колбасы и, когда обернулся, замер: девушка прилегла на кровати, склонила голову на подушку и спала, причмокивая губами.
Стараясь, чтобы не скрипнули половицы, Вислов покинул номер, присел у стойки администратора на стол, который недавно занимала студентка.
«Даже не верится, что так могут любить. Считал, что на такую любовь способны только мужчины, а тут пигалица…»
В размышлениях не заметил, как рядом появился экипаж.
— Чего скучаешь? Мы специально ушли, чтоб тебя не беспокоить.
Бортрадист не успел остановить друзей, как Жилин распахнул дверь номера.
— Вот это кадр! Картина почище чем в Третьяковке. Мы-то, дубины, считали, что наш Степочка храпака дает, а он паву отхватил! Как говорится, потянуло на любовь!
Вислов оттер Жилина, закрыл перед его носом дверь:
— Молчу! — Жилин поднял руки. — Одного не понимаю: ты тут, а она там — рокировка не в твою пользу.
— Еще подышим, — предложил Вислов.
Экипаж покинул ресторан только после напоминания официантки о закрытии. На крыльце Жилин всмотрелся в небо:
— И завтра, как пить дать, нелетная погода.
— Не накаркай! — ответил командир, но штурмана было невозможно остановить:
— Могу идти на любой спор, что порт не откроют. Все полеты, в том числе местных авиалиний, запретят. Не верите — звоните диспетчеру или синоптикам. Раз погода устроила сабантуй, можно горе залить портвейном.
Жилина никто не поддержал, не напомнил, что после возлияния всех снимут с рейса.
До гостиницы по пружинящей под ногами деревянной мостовой шли молча, в конце пути Жилину надоело молчание и он фальшиво затянул:
Ждите нас, не встреченные
В маленьких асфальтовых
— Н-нда, — выдавил из себя командир, и никто не понял: осуждает испортившуюся погоду или рад пребыванию на земле.
Дверь в номер Вислов открыл неслышно. Девушки на кровати, как и плаща, сапог, не было. Дежурная сказала, что поселила студентку до утра в кабинет заведующего. Ноги сами привели к обитой клеенкой двери, за которой слышались приглушенные голоса: первый принадлежал девушке, второй был мужской.
— Не спорь и пей, не забывай про сгущенку. Ужас, как исхудал — настоящие мощи, краше в гроб кладут. Придется откормить, иначе решат, что я морила тебя голодом. Ешь, пей и не смотри волком, точнее, оленем. У них глаза тоже блестят, словно плачут…
— Второй стакан выдул. И ты тоже пей, закусывай.
Вислов приоткрыл дверь на узкую щелку и увидел нескладного, худющего, с непропорционально длинными руками парня в тельняшке. Поблескивая линзами очков, парень лакомился сгущенкой. Сокурсница тем временем не сводила с него влюбленного взгляда…
Бортрадисту захотелось немедленно оказаться в Архангельске у Ольги, где все, начиная со слоников на буфете и кончая единственной книгой «Уход за кожей лица», было знакомо, встать у занавешенного ночью окна, почувствовать за спиной прикосновение женского тела, ласковых рук…
В Архангельске Вислов добежал до здания аэровокзала, но в кассе вместо Ольги увидел другую девушку, которая жеманно доложила, что Ольга выходная. До отлета в Москву было около пяти часов, и Степан громко, чтобы услышал экипаж, сказал:
— Я в город. Не опоздаю.
В тряском автобусе спрашивал себя: отчего ни разу не посочувствовал Ольге, которой приходится отшивать в ожидании посадки клиентов, почему скрывал от экипажа, куда спешит в северном городе, почему не задумывался, что кассирша давно ему не чужая?
Поднимаясь по поющим под ногами ступенькам, вспомнил, что еще ни разу не приходил сюда один, всегда приводила Ольга.
На звонок дверь долго не открывали, пришлось нажимать кнопку вновь.
Голос был бортрадисту не знаком.
«Видно, соседка, с кем ни разу не сталкивался», — понял Степан и ответил:
Щелкнул замок, и Вислов впервые увидел соседку кассирши, которая совсем не походила на старую деву, тем более мымру, наоборот, на пороге стояла моложавая, приятной наружности женщина неопределенных лет.
— Ольги нет дома! — сквозь сжатые зубы процедила соседка, собралась захлопнуть перед носом Вислова дверь, но Степан успел вставить в проем ногу. — Русским вам языком сказано: Ольги нет!
Вислов отстранил с пути женщину, прошел в квартиру и, как хорошим знакомым, подмигнул детским санкам на стене.
Лишь только Егор Захлебин встречает где-либо внушительного размера — ростом почти с теленка — неизвестной породы пса, как вспоминает собственное детство и собаку с подпалиной на боку, сыромятным ошейником. Егор смежит веки и, словно наяву, видит распростертое тело собаки, расколотую топором голову…
Незнакомец с вещевым мешком за спиной остановил Гошку на окраине поселка.
— Как в Совет пройти, и еще в милицию?
Человек в шапке-ушанке с вылезшими клоками меха, телогрейке, разношенных сапогах не привлек внимание мальчишки: мало ли кто приходит в поселок? Другое дело громадный пес с испуганно-грустными глазами: незнакомец держал собаку на короткой веревке, не позволял отойти ни на шаг.
— Никуда не сворачивайте и упретесь в клуб, — ответил Гошка. — За клубом поссовет с милицией.
— Отгрохали клуб? Прежде не было.
— Давно, я еще в школу не ходил, — Гошка подумал и добавил: — Сейчас в поссовете никого нет — бухгалтерша приболела, а батя укатил на совещание в район.
— Кто у тебя отец?
— Председатель, — гордо ответил Гошка.
Человек всмотрелся в мальчишку, словно желал увидеть в нем что-то знакомое.
— Ивана Захлебина сын?
— Вот бежит времечко — не угнаться, — незнакомец скривился и так грязно выругался, что Гошка опешил, подобную замысловатую ругань услышал впервые.
Потеряв интерес к мальчишке, человек дернул веревку, и собака безропотно задвигала лапами.
«Чудной пес, и дядька тоже чудной. На курортника не похож, те прибывают не пешими, а на личных машинах или рейсовом автобусе, привозят не собак, а детей. И не сезон пока — море стылое, горожане не рискнут искупаться», — подумал Гошка.
Вечером из райцентра вернулся отец. На пороге снял обувь, плащ, начал отфыркиваться у рукомойника, разбрасывать вокруг брызги. Закончив вытираться и вновь облачившись в рубашку, приказал сыну:
Показывать дневник у Гошки не было желания, тому имелась веская причина — дневник хранил две двойки.
— Ты в субботу уже смотрел, — напомнил мальчишка.
— Не грешно посмотреть еще раз. Доставай и не спорь.
Гошка начал возиться с портфелем, будто заклинило замочек: отец, без сомнения, рассердится, увидев отметки, станет ругать, придется не в первый раз давать обещание исправиться, взяться за ум, не проводить много времени на улице, больше внимания уделять домашним заданиям…
Отец забыл о приказе, обернулся к жене:
— Слышала, кто к нам пожаловал?
— Ты про Егорычева? — спросила из кухни мать.
— Про него. Как увидел, чуть со стула не брякнулся. Считал, давно помер или сгинул, а он живехонек, только сильно постарел.
— Двадцать годов. Предъявил справку об освобождении, но не о снятии обвинения: предатель остается предателем. Думал, приехал на время в родные места, а он: «Насовсем остаюсь».
Гошка порадовался, что отец не вспоминает о дневнике, решил принять участие в разговоре родителей:
— Знаю этого Егорычева.
— А ну выкладывай начистоту!
Гошка признался, что встретил утром, только не знал, что это Егорычев.
— Спросил, где милиция и поссовет, не ведал, что построили клуб и батя председательствует.
Отец кашлянул в кулак, переглянулся с женой, сел ужинать.
«Пронесло! — обрадовался мальчишка. — Здорово отвлек внимание, не до дневника стало».
Но, закончив есть наваристый борщ, отец потребовал:
Гошка сник: «Погорел. Оставаться за двойки дома не только сегодня, а всю неделю…» С понурым видом отдал дневник и отступил к окну, за которым шумело волнами море…
Было уже довольно поздно — телевизор выключен, свет погашен, когда Гошка услышал приглушенный разговор в соседней комнате.
— И меня страх обуял, как узнала, кто объявился, — говорила мать. — Тотчас припомнила, как он с немцами выгонял стар и млад на площадь, казнь свершали. Сама лишь на ноги встала, а сердце подсказывало, что творится страшное. Не забыть, как ревели мы в голос, а Егорычев покрикивал, требовал замолчать, как привели избитого красноармейца, что прятался в сарае, поставили у стенки и застрелили…
— Егорычев стрелял? — уточнил отец.
— Нет, другие полицаи. Потом деда Мавродия как участника гражданской и мировой войн насмерть забили. Узнала про Егорычева — и точно прошлое возвернулось.
— Старое не возвращается.
— Полностью свое отсидел, подчистую освободили, в справке указано местожительство — наш поселок.
— Зачем на работу принял? Ни одна бригада его к себе не возьмет.
— Больше ему некуда ехать, к тому же родился у нас.
— И где мародерствовал, немцам прислуживал! Не забуду, как унес последний мешок картошки и мамино обручальное кольцо, еще что пленных конвоировал, измывался над ними. Не успел вместе с немцами уйти — те бросили, как падаль. Почти полгода в займище прятался, одичал, питался неизвестно чем, когда изголодал — сдался, пошел под суд. Мало дали — по мне бы век оставался под арестом. Жену оставил на сносях, ребеночка записали на материнскую фамилию, потом уехали, а куда — бог знает. Чуть ли не четверть века минуло, а не могу простить, как пресмыкался перед врагами, гнал молодежь в неметчину. Мать кланялась в ноги, умоляла не выдать, что муж в Красной, а он: «Гони золотишко!».
— Свое сполна получил, если бы убивал, другую статью дали, вплоть до высшей меры.
— Убивать, верно, не убивал, а измывался так, что хуже не бывает. Как таких только земля держит?
— Удивительно, что все помнишь, тебе же тогда два годочка было.
— В войну рано взрослели, соседка не стерпела надругательств и наложила на себя руки, а он хвастался немецкой медалью, приколол на пальто, чтоб все видели… На твоем бы месте указала ему от ворот поворот.
— В справке оказано, что полностью отбыл срок, направлен к нам на постоянное жительство…
В спальне замолчали, сколько Гошка ни прислушивался, ничего больше не услышал. За окном продолжало шуметь море, повизгивать на петлях — точно плакало дитя — не-затворенная калитка. Мальчишка поворочался, помял под головой подушку и, когда уснул, из мрака выплыл человек с собакой на поводке. Хмуро косясь, Егорычев пролаял раз, другой, дескать, не подходи, не то несдобровать, стал бить хвостом по полу, да шибко так… Гошка отшатнулся, собрался позвать на помощь, но голос пропал. Он ударился затылком о спинку кровати, открыл глаза и увидел не нового в поселке человека и его пса, а солнечный луч на потолке. Не простившись со сном, услышал настойчивый стук.
Стучали во входную дверь. Пришлось вставать, пройти босым по половицам.
На пороге стоял явившийся из сна Егорычев.
— Отец спит? Коль храпака дает — не буди и сам топор дай: позарез нужен, без него как без рук.
Окончательно проснувшись, мальчишка уже более внимательно, нежели вчера, рассматривал заселившего соседний дом. Гошка смотрел на Егорычева, а тот на мальчишку.
— Так дашь иль нет топор?
Топор вместе с ящиком, в котором хранились плоскогубцы, гвозди, ручная пила, стоял за кадушкой. Гошка протянул требуемое и похвастался осведомленностью:
— А ваш дом который год стоял заколоченный, прошлой осенью, когда страшный шторм был, волны чуть до него не дошли, ветер стал крышу срывать. Как поутихло, я с пацанами на крышу взобрались и чуть шеи не свернули — стропила-то подгнили.
— Куда взрослые смотрели? Отчего ремня не дали? Из-за вас дожди в дом проникли, пол сгнил. И так крыша на честном слове держалась, а вы… Драть некому, я бы уж… — Егорычев не договорил, обернулся на шаги вошедшей хозяйки. При виде незваного гостя ее лицо стало белым, глаза округлились.
Егорычев исподлобья сверлил женщину тяжелым взглядом.
— Я, это самое, за топором пришел, надо кой-чего починить, без топора как без рук, дом в полный упадок пришел…
Мать продолжала молчать, крепко держась за косяк, чтобы не упасть — пальцы казались неживыми, как и она сама.
— Стропила подчистую сгнили — может, червь уел, половицы разошлись, стали почти трухой. Главное, крыша прохудилась, работы непочатый край, без инструмента не приступать к ремонту…
Егорычев шагнул к выходу. Мать не сразу уступила дорогу — ноги точно приросли к полу. Когда же сосед вышел, некоторое время не шелохнулась. Лишь когда во дворе пропела калитка, бросилась к сыну, прижала его к груди, точно опасалась, что с Гошкой случится нечто непоправимое, надо его спасать.
— Ты чего, мам? — испугался мальчишка.
Мать была не в силах произнести ни слова, наконец выговорила:
— Я за тебя в школу пойду? Марш умываться и завтракать! До звонка десять минут! Горе мне с тобой! Придет отец — уж нажалуюсь!
Что дальше говорила мать, Гошка не слушал. Плеснул в лицо пару горстей воды, залпом осушил кружку молока, зажал в зубах ломоть хлеба с сыром, схватил портфель и был таков.
На большой перемене, прячась с мальчишками от учителей в уборной, Гошка спросил:
— В войну с нами воевали не только немцы, а и полицаи из русских, кто прислуживал врагам. Отчего их так звали? Полицейские ведь были при царе.
Мальчишки пожали плечами — ответа не было, лишь Данька Чижов, успевший прочитать чуть ли не все книги в школьной библиотеке, знающий больше иных молодых учительниц, сказал:
— И в войну были полицейские.
Данька, как и Гоша, не курил — попробовал разок, но стало тошно, в курилку приходил за компанию. Данька сплюнул, добавил:
— Царские ходили с дубинками, чтоб демонстрантов бить, а фашистские с оружием: немецкие холуи были пострашнее царских.
— Он не похож на фашиста, — отметил Гоша, вокруг не поняли:
— Он с собакой пришел. Пес — чистый волк, заглянул за забор, а он ка-ак кинется — не был бы привязан — разорвал.
Мальчишки уставились на одноклассника, и Гоша, радуясь вниманию, продолжил:
— В тюрьме сидел, теперь выпустили. На вражину не похож, — заявил Данька. — Человек как человек.
— Написано должно быть «полицай»? С войны больше двадцати лет прошло, за эти годы мог снова стать честным.
Все уставились на самого сведущего, и Данька изрек:
— Мог, двадцать лет — срок немалый.
Мальчишки сидели за забором, опасаясь подойти к заброшенному, прежде ничейному, а с недавних пор заселенному дому с прохудившейся крышей, разбитыми в окнах стеклами. Причин для осторожности было много, и первая — пес с подпалиной на боку, недобро урчащий, показывающий клыки. Собака была привязана у крыльца и рычанием предупреждала, что схватит мертвой хваткой любого, кто посмеет ступить на охраняемую территорию.
Пес осознал, что незваные гости за штакетником не переступят границу, не войдут на территорию, перестал рычать, лег у стены с обвалившейся штукатуркой, с почерневшими от времени планками, отчего стена походила на скелет.
— Чистый зверь! — оценил пса Сережка Гордеев, добавил: — Такой схватит — не вырвешься, запросто прокусит руку и ногу, сделает инвалидом.
— Испугались? — съехидничал Гошка. — Слабо подойти? — расхрабрился и перелез через забор, ступил на заросший сорняками соседский двор. Постарался скрыть возникшую в коленках дрожь, что удалось с трудом, двинулся к выглядевшему жалким дому-пятистенку.
Удивленная невиданной дерзостью собака ощетинилась, показала два клыка. Возвращаться, тем более убегать без оглядки, Гоша не мог, иначе навечно прослыл бы в глазах ровесников трусом, и продолжал передвигать ноги.
Собака уже зловеще прорычала. Гошка хотел произнести что-то ласковое, чтоб пес не считал его врагом, но голос пропал, к тому же не успел — пес оттолкнулся от земли. Собака, точно обрела крылья, взлетела и… опустилась бы на мальчишку, но ее перехватил Егорычев. Схватил за загривок, другой рукой сильно и, видно, больно, ударил кулаком в бок, затем обернулся к Гошке:
— Жить надоело? Загрыз бы и не подавился, а мне потом под суд идти? — Егорычев осекся, узнав в насмерть перепуганном мальчишке сына соседей. — Молись, что сдержал Кабысдоха, иначе уже не дышал!
В руках Егорычева пес стал иным, нежели пару минут назад — зрачки испуганно забегали, хвост поджался. Собака смотрела виновато, собралась лизнуть хозяина в руку, демонстрируя любовь, но Егорычев сильно потряс, затем пнул сапогом в бок, отчего Кабысдох по-щенячьи взвизгнул. Ничего не говоря, не глядя на оцепеневшего мальчишку, Егорычев увел пса, привязал у крыльца и скрылся в доме.
С трудом простившись со страхом, Гошка вернулся к друзьям. Когда отдышался, пришел в себя, спросил:
— Ну, похож он на фашиста?
— Не! — в один голос ответили мальчишки. — Те были хуже зверей, а этот спас тебя, не позволил собаке разорвать.
Отец долго возился в прихожей, полез на чердак, вернулся недоуменным:
— Хорошо помню, что здесь топор оставил — словно сквозь землю, то есть пол, провалился. — Обернувшись к сыну, спросил: — Может, ты брал и забыл положить на место?
— У соседа топор, — признался Гошка. — Попросил одолжить, ну и услужил по-соседски.
Мать у плиты замерла. Отец кашлянул в кулак.
— Напраслину на него наговаривают, никто не здоровается и мимо проходят, будто он чужой.
— Он и есть чужой, — тихо ответила мать. — Был чужим и чужим остался. Думаешь, немцы насильно в полицию взяли? Добровольно, с большой охотой служил вражинам, как мог издевался над народом, стращал, что отправит в неметчину, отбирал последние харчи и одежду, сторожил арестованных — те просили воды, а он в ответ смеялся. За верную службу медаль получил — хвастался ею.
— Ничем и никогда не искупит вины, — добавил отец и еще что-то хотел сказать, но не успел — за дверью послышался голос:
— Вылазь, паскуда! Нашел моду убегать! Узнаешь, как не подчиняться!
Захлебины вышли из дому и увидели соседа, сидящего на корточках у крыльца.
— За своей псиной пришел — снова посмела убежать, будто у вас медом намазано, — объяснил Егорычев, не глядя на соседей. — Насилу нашел. — Заглянул под крыльцо, позвал: — вылазь! Иль прикажешь упрашивать?
Потянулся рукой под крыльцо, не дотянулся до собаки, хотел выругаться, но смолчал, сделал еще одну попытку достать Кабысдоха.
— Узнаешь у меня, как удирать!
Оказавшись в руках хозяина, пес затравленно смотрел на Егорычева.
— Прощения прошу, что пришлось побеспокоить. Благодарствую, что приказ подписали и моя анкета не испугала. Только бригада к себе ни в какую не берет и говорить со мной отказываются, будто я чумной, вы поставьте их на место, — последние слова Егорычев произнес, уже приближаясь к калитке.
Захлебины вернулись в дом, весь вечер точно набрали в рот воды, за ужином украдкой косились в окно, за которым доносился собачий визг — сосед учил Кабысдоха беспрекословному подчинению.
Утром, когда Гошка спустился с крыльца, увидел торчащий под ступеньками куцый хвост. Уже не опасаясь собаки, позвал Кабысдоха. Пес высунул вначале голову, затем выполз. Доверчиво подполз к мальчишке, лег у его ног. Гошка погладил, и пес лизнул детскую руку. Гошка поспешно раскрыл портфель, вытащил завтрак. Упрашивать беглеца не пришлось — Кабысдох проглотил бутерброды.
Гошка собрался принести еще еды, но тут рядом вырос Егорычев. Схватил собаку, отчего голова Кабысдоха дернулась, и потащил, то и дело ударяя носком сапога.
— Будешь знать, как удирать!
Новый удар, новый визг.
Бил Егорычев умело, со знанием дела, видимо, имея богатый опыт. Собака уже не визжала, не скулила, не взывала о милосердии. У своего дома Егорычев ударил пса в последний раз и отбросил еле живое тело…
Спустя час Кабысдох вновь перебежал к Захлебиным.
Первой услышала под крыльцом шорохи мать. Ни слова ни говоря, выудила из кастрюли мясистую кость, отдала сыну, и Гошка бросился кормить собаку, но та долго не притрагивалась к еде, водила шершавым языком по засохшей на шерсти крови, вылизывая рану.
Кабысдох послушно заковылял за мальчишкой. В прихожей улегся, когда же перед ним поставили миску с водой, с жадностью вылакал все до дна.
— Пусть у нас останется, — попросил мальчишка, и мать ответила:
Егорычев пришел, когда его никто не ждал.
Над поселком спускались сумерки. С моря надвигалась синяя прохлада. Поутихли гривастые волны. Неугомонные чайки вернулись в свои гнезда.
— Где Кабысдох? — не поздоровавшись, спросил выросший на пороге сосед.
Не стал дожидаться ответа, осмотрелся по сторонам, увидел забившуюся в угол собаку, нагнулся, чтобы не позволить прошмыгнуть мимо ног, собрал в кулак собачью шерсть.
— Узнаешь, как удирать! — приподнял собаку и ударил кулаком промеж глаз.
Кабысдох дернулся, не попытался вырваться, накрепко запомнив незыблемое правило — беспрекословное подчинение хозяину.
— Калекой сделаю, коль станешь своевольничать, не подчиняться! — Егорычев занес руку, чтобы снова ударить, но помешала мать:
— Оставьте собаку! — потребовал отец.
Егорычев хмуро ответил:
— Не лезьте не в свое дело, мое это добро, один я им распоряжаюсь, что пожелаю, то и сделаю, хочу — помилую, хочу — жизни лишу.
Не выпуская собаки, вышел из дома. Оказавшись на своей территории, свободной рукой поднял топор и ударил Кабысдоха по затылку раз, другой.
Все произошло настолько неожиданно, что трое Захлебиных остались ошеломленно стоять, затем бросились к забору.
Егорычев не стал ждать, когда соседи отберут обмякшую, не подающую признаков жизни собаку, отбросил топор, разжал пальцы, выпустил бездыханное тело и скрылся в доме.
— Чужой он, чужой! — залился слезами Гошка. — Хуже фашиста!
В тот же день Егорычев забил окна досками крест-накрест, навесил на дверь амбарный замок и ушел неизвестно куда. Окровавленный топор остался рядом с трупом собаки.
Старший Захлебин похоронил Кабысдоха на окраине поселка. А топор не взял, и сыну запретил брать. Топор недолго лежал за забором, вскоре его как крайне необходимую в хозяйстве вещь унес кто-то из поселковых.
Не плачь, моя жалейка
Ранней весной, когда над полями, колыхая воздух, поднялся теплый пар, по проулкам Кураполья побежали мутные ручьи талого снега, вновь зажаловалась жалейка. Пение дудочки было настолько печальным, что даже самые улыбчивые стали хмурыми.
Конюх Иван Авилов поднял черный от дратвы палец, приложил ладонь к уху:
— Точно душу наизнанку выворачивает! Будто за упокой играет, еще немного — и слезами обольешься, сил нет такое слушать!
Жена Степанида перестала выбирать из бочонка квашеную капусту, а Иван продолжал:
— Всю зиму, слава богу, помалкивала, думал уж угомонилась, не услышу больше дудки, ан нет, снова точно по нервам саднит. Надо отнять жалейку.
— Дите ведь, чего с такой взять? — спросила Степанида. — К тому же судьбой обижена, материнской лаской обделена — сиротство не сахар.
— Какая же сирота при живой матери? — не согласился Иван. — Нет Лизке прощения, настоящая кукушка! Подбросила дитя матери-старухе, которая на ладан дышит, и грехам в городе предается! — он шагнул к плетню, крикнул через улицу: — Евдотья, уйми свою, прошу в последний раз! Настанет конец терпению — сломаю жалейку, а внучку отлуплю вожжами!
Степанида усмехнулась, зная характер мужа: тот бывал строг, но чтоб поднять руку на кого-нибудь, тем более на девчушку, пугал напрасно.
Предупреждение возымело действие — жалейка умолкла. Когда же Иван ушел на конюшню, а Степанида на ферму ворошить силос, из соседнего скособоченного дома, где грачи повыдергивали с крыши солому, вышла длинноногая девчонка в застиранном платьице, еле достающем до острых коленок, в разношенных взрослых галошах на босу ногу. Придышалась к пахнущему свежей сыростью воздуху, зажмурилась на еще холодное солнце, утерла рукавом нос и поднесла к губам камышовую трубочку, выдула щемящий душу звук, похожий на плач.
Собачонка, которая по щенячьему неразумию ошалело и бесцельно носилась по проулку, замерла, подняла голову и завыла, отчего завфермой Мокей чертыхнулся, дернул себя за неумело подстриженную бороденку, сплюнул под ноги.
Так происходило каждую весну. Стоило просинеть равнодушному небу, появиться над Курапольем стаям птиц, как внучка старой Евдотьи принималась дудеть в дудочку-жалейку, и по этой причине малолетку прозвали Жалейкой, забыв, что девочка награждена иным именем.
Кроме глуховатой бабки у Жалейки была мать, но о ней Евдотья с внучкой давно не имели вестей. Последний раз почтовый перевод на сто рублей поступил минувшей осенью, сама Лиза побывала в селе шесть с лишним лет назад, сразу же после случившегося на свинарнике пожара.
— Давненько не заявлялась, — не выказала радости появлению дочери Евдотья. — С чего бы вдруг объявилась?
Лиза повела плечом, притронулась вспотевшей ладонью к заметно округлившемуся животу:
— Разве не видно? По нашему бабьему делу. Тут разрожусь, где все знакомо: в родных краях и хлебушек с водицей слаще, и родить легче.
Евдотья ничего больше не спросила. К вечеру по Кураполью из дома в дом пронеслась весть, что Лизка, которую все знали пацаненкой, прибыла скрыть грех, неизвестно от кого понесла, вроде и самой это не ведомо. Одна давнишняя подружка захотела утолить понятное любопытство, задала Лизе вопрос про отца будущего ребенка — кто он, откуда, обещал ли жениться, признать будущее дитя, но ответов не получила и обиделась, надула губы.
Спустя месяц Лиза произвела на свет девочку, настолько тихую, что в роддоме врачи с медсестрами решили, что дитя не жилец на этом свете. Но минула неделя, другая, и персонал роддома перестал опасаться за жизнь новорожденной.
Вернувшись к матери, Лиза пристроила дочь в ясли, сама пошла работать на ферму, где прежде трудилась Евдотья и сама Лиза после окончания восьмилетки. Работа не заладилась: Лиза разругалась с директором совхоза, взяла расчет и укатила обратно в город. Некоторое время Евдотья по-прежнему относила внучку в ясли, затем посчитала, что это не по карману и стала кормить да растить сама.
В первый год жизни Жалейки из города поступали денежные переводы, в письмах Лиза интересовалась дочкой, позже сельский почтальон стал обходить стороной дом под растрепанной ветрами, дождями, пролетными птицами крышей.
Изредка Евдотья зазывала к себе кого-либо из грамотных, усаживала за стол, доставала со дна сундука короткие письма дочери, просила почитать. Внимательно слушала, шамкала беззубым ртом, точно что-то пережевывала, ждала, что Лиза сообщит, когда заберет малышку. Но вместо этого который раз гость читал жалобы на осточертевшее житье в фабричном общежитии, денежные затруднения.
— Как-нибудь уж, — говорила не гостю, а себе Евдотья, прятала письма в сундук под стопку белья, которое приготовила на случай смерти.
По старости Евдотья ушла с фермы, жила на скромную пенсию, радуясь, когда назначалась прибавка, удавалось подработать, наторговать лечебными травами, собираемыми по лугам, в лесу. Их старушка сушила, относила по праздникам на рынок. Подспорьем были и веники, которые наполняли тесный домишко терпким запахом — веники шли лучше трав. Вырученные деньги уходили на приобретение обновок для внучки, и старушка не переставала удивляться, как Жалейка быстро вырастает из одежды, еще не сношенной. Частенько односельчане звали копать картошку, за работу платили не деньгами, а мешком клубней.
В дни пенсии в скособоченном доме наступал праздник. Бабка с внучкой готовили ватрушки, варили не пустой суп, лакомились колбасой и на сладкое лимонадом, который в сельмаг привозили из города.
— Коль ты бабка-одиночка, сама ребенка растишь, то положено пособие, — посоветовал однажды Иван Авилов. — Иди к начальству совхоза, пусть даст указание, чтоб выписали сотню-другую.
Евдотья поблагодарила за совет, но никуда не пошла, помня, с каким скандалом увольнялась Лизка — у дочери померло трое телят, да и какая она одиночка, ежели растит на радость родную кровинушку?
Свою очередную, шестую зиму девочка вновь просидела в четырех стенах — ботинки поизносились, стали протекать, новую обувку решено было приобрести ближе к лету.
В первый после морозов, метелей, снежных заносов теплый денек девочка вышла за калитку, собралась пройти к клубу, но на пути встали мальчишки.
— Тю, чистый скелет! — сказал один, другой добавил:
— Не видел такую худобу! А веснушек столько, что не сосчитать!
— Без мамки живет и еще без папки! — заявил третий, и трое хором задразнились:
Злые слова больно ударили девочку, точно отхлестали по щекам. Жалейка затравленно отступила, прижалась к изгороди и долго бы так стояла, словно зверек, глядя на гогочущих мальчишек, но появился Иван Авилов.
— Цыц, байструки! Ишь обрадовались — все на одну! — конюх схватил первого подвернувшегося мальчишку. — Еще раз услышу паскудство, отлуплю как сидорову козу, век станете помнить, как малую обижать. Чешите подальше, пока уши не открутил!
Мальчишки припустились сломя голову.
Авилов собрался подбодрить Жалейку, сказать что-то ласковое, но не отыскал нужных слов и двинулся к конторе, косолапо передвигая ноги в разношенных сапогах.
С того дня стоило Жалейке увидеть детвору, сразу пряталась, обходила стороной. Тогда-то и смастерила жалейку из камышового стебля, тогда и услышали в Кураполье плач дудочки, а внучку Евдотьи стали звать Жалейкой.
Узкая, чуть виляющая тропа вела от Кураполья к озеру Мшава, где берега покрыл камыш, вода была тинистой.
Стоило ветру зарябить озеро, заблудиться в камышах, как стебли клонились, точно били поклоны, по озеру разносился легкий гул.
Жалейка частенько приходила к озеру, прислушивалась к ворчанию камыша и выбирала стебель, который пел лучше других. Дома мастерила новую дудочку, уходила за село, в безлюдье и там дудела, сколько желала душа. На просторе, особенно на луговине у молодой поросли леса, у тихой воды, дудочка звучала по-иному, нежели под крышей, на воде жалейка точно набирала силу и пела в полный голос, была напевно-ласковой. Долгой зимой Жалейка дула в дудочку только дома, и тогда казалось, что в четырех стенах поселился новый жилец с камышовым голоском.
— Как-нибудь уж, — повторяла глуховатая Евдотья, точно советуясь со святыми на иконах, которые в стародавние времена прадед приобрел у богомаза.
Для одних время в Кураполье тянулось не спеша, со скрипом, будто несмазанная подвода с ленивой конягой, для других бежало без оглядки, как резвый рысак. В круговерти будней в поселке проглядели, как пошла в рост внучка Евдотьи, перестала быть сопливым несмышленышем.
Первым на это обратил внимание директор восьмилетней школы. Готовя к очередному учебному году справку о всеобуче, он узнал, что Антонине Емельяновой уже исполнилось семь лет, не поленился прийти к Евдотье:
— Почему не записываете внучку в школу? Не желаю получать выговор в районо, скажут, плохо привлекаю детей к учебе. Извольте первого сентября привести к нам девочку.
— Не в чем идти, — виновато сказала Евдотья. — В галошках иль валенках, чай, не пустите, а другой обувки нет.
И на тетрадки с учебниками грошей нет — до пенсии лишь десятка осталась…
Директор переговорил в поселковом Совете, и Евдотье выделили «на предмет покупки для внучки-первоклассницы» 850 рублей. На свалившиеся как снег на голову деньги бабка приобрела добротные мальчиковые ботинки на толстой подошве и резиновые сапожки, которые приглянулись в магазине.
— В распутицу станешь ходить в резине, иначе кожаная обувка развалится. Носи и береги, чтоб долго прослужила, — мудро наставила Евдотья, и первого сентября Жалейка пришла в школу при полном параде — в новых ботинках, в перешитом из бабкиного гардероба платьице с рюшечками. На уроках сидела не шелохнувшись, не сводила взгляда с учительницы, еще не веря, что попала в новый мир. На большой перемене столкнулась с мальчишками из третьего класса:
— Тю, шкилет приперся!
Жалейка втянула голову в плечи и, как бычок, готовый боднуть каждого вставшего на пути, ринулась на обидчиков. Мальчишки не ожидали такой прыти от первоклашки и дали стрекача.
С того дня к прополке, поливу огорода, стирке, мытью посуды девочке прибавилось выполнение домашних заданий, дел навалилось так много, что засыпала как убитая.
В конце сентября, когда в предзимние дни Кураполье окутало серебро паутины, возле дома Евдотьи с визгом тормозов остановился грузовик. Хлопнула дверца кабины, затем пропели петли калитки, проскрипели под шагами доски крыльца.
На стук Жалейка откинула с двери крючок и увидела на пороге женщину в пушистой кофте, узкой, обтянувшей крутые бедра юбке, цветастой косынке на высоко взбитых волосах. Некоторое время женщина всматривалась в девочку, затем выронила хозяйственную сумку, и к ногам Жалейки выкатилось нечто ярко-желтое, круглое, похожее на мячик.
— Тонечка, родненькая, кровинушка моя! Вытянулась-то как, повстречала бы где, не признала за свою!
Жалейка не успела и глазом моргнуть, как оказалась обхваченной сильными руками, прижатой к груди, обсыпанной поцелуями. Незнакомка пахла чем-то далеким, но удивительно близким. Попыталась вырваться, однако женщина держала крепко и цепко, щекоча невиданными в Кураполье черными (в поселке все были белоголовы), как воронье крыло, волосами.
— Где мать, то есть бабка? Снова у чужих спину гнет на огороде? Ей давно за семьдесят, поберечься надо. Не предупредила о приезде, чтобы удивить и обрадовать, свалиться как снег на голову. С мучениями отпуск выбила: по плану положено зимой отдыхать… — женщина как заведенная сыпала словами, затем подобрала с крыльца апельсины и вошла в дом.
— Чего молчишь, иль язык проглотила? Не признала родную мамку? А твоя карточка над кроватью у меня висит — как засыпаю, завсегда тебе доброй ночи желаю…
Из кухни вышла Евдотья, и гостья осеклась.
— С приездом, — прошамкала беззубым ртом старушка, уставилась на апельсины. — Зачем тратилась, чай, дорого стоят. Яблоки нынче уродились, а груша сильно терпкая, рот вяжет. А это одно баловство, перевод денег: пробовала, когда Тонька из школы с елки принесла… — Евдотья говорила и подслеповато смотрела на дочь, точно желала определить, осталось ли чего от девушки, которая росла в радость. Пожевала пустым ртом, добавила: — Отписала бы, что едешь, заказали привезти пиленый сахар, не то с песком чай не чай, а кусковой слаще и выгоднее — тает не быстро…
— Мам… — прошептала Лиза, притронулась рукой с перламутровыми ногтями к плечу Евдотьи.
— А у Касьянихи червь всю картошку съел, — продолжала Евдотья. — Видать, зараза на огород напала иль кто сглазил, порчу напустил. Нас-то Бог миловал, уродилась как на подбор крупная. Соседи ну порошками грядки посыпать. Теперь кротов опасаются — они страсть какие прожорливые. — Старушка говорила устало, немного безразлично, и дочь не выдержала:
— Мам, отчего ничего не спрашиваешь? Ведь почти пять годков не виделись.
— А про что пытать? — удивилась старуха. — Приехала, и ладно. Коль есть что поведать, сама без расспросов скажешь, в душу лезть не буду.
Тяжело переступая, она пошла к печи, по пути покосилась на притихшую внучку.
Ужинали привезенными сосисками, колбасой, треской в томате, чай пили с невиданной заваркой в пакетиках. Когда все съели и выпили (на сладкое открыли банку ананасов), Лиза сладко потянулась.
— Ложись уж, — предложила мать.
Спать гостью уложили на кровать с шарами, дали накрыться давно не проветриваемым одеялом, выделили две лучшие подушки, но Лиза от одной отказалась:
— Не привыкла высоко голову держать, в общежитии одну подушку имею, не перьевую, как тут, а ватную.
Лиза разделась, покачалась на панцирной сетке и позвала Жалейку.
— Не, я у себя, — отозвалась девочка, но Лиза повторила приказным тоном, и девочка робко прилегла рядом с матерью на самый краешек кровати.
— Рассказывай, как без меня жили, — Лиза поправила на дочери одеяло. — Наверное, в школу уж ходишь?
Мягкой рукой обняла Жалейку, прижала к себе, и девочка уткнулась в теплую материнскую подмышку.
— Скучала? А я почитай каждый день про тебя думаю, посмотрю на фотку и вспоминаю, как молоко сцеживала, когда на ферму затемно уходила на дойку, а новорожденную оставляла дома.
— А у нас учительница при всем классе Мишку Голуба сильно ругала за то, что принес в школу живого мыша, — впервые за вечер заговорила девочка.
— Мышь — это хулиганство, — оценила шалость Лиза.
— А бабка прошлой зимой приболела, спина не разгибалась, в боку стреляло и сердце прихватило. Сказала, что это все от старости, а от нее лекарств не бывает… — видя материнское внимание, Жалейка заговорила быстро, точно могли перебить, запретить открывать рот. — Я отваром трав лечила и на жалейке играла, чтоб про боли меньше думала. Моя жалейка самая лучшая в Кураполье, ни у кого такой певучей нет… — девочка вылезла из-под одеяла, ступила на холодные половицы и вернулась с дудочкой. — Гляди какая.
Лиза не ответила: отвернувшись к стене с бумажным ковриком, спокойно дышала, чуть подсвистывала сквозь пухлые губы…
Проснулась Лиза поздно. Некоторое время лежала, глядя в бревенчатый потолок, затем обвела взглядом комнату, вспоминая, где провела ночь. Спешить было некуда. Понежившись, откинула одеяло, но что-то уперлось в бок, этим что-то была камышовая дудочка. Лиза повертела в руке находку и бросила за кровать.
На этот раз из школы Жалейка возвращалась бегом, нигде не задерживаясь. Ворвалась в домишко и замерла, увидев, что мать не одна, за одним с ней столом сидели продавщица сельмага Степанида и соседка Аглая. Женщины осоловело смотрели перед собой, тянули песню про степь и замерзающего в ней ямщика. В нестройном хоре солировала Аглая, с непонятной безысходностью выкрикивала:
В той да степи глухой, Замерзал ой да ямщик!
Лучше всего получалось «ой да», отчего песня становилась залихватской. Закончив, запели про девочек, которые напрасно любят женатых парней.
— Нет, Лизка, что ни говори, а я не уважаю портвейн, — с трудом ворочая языком, тыкая вилкой в кружочки колбасы, признавалась Степанида. — Портвейн, хоть и сладок, но больше смахивает на газировку. То ли дело водочка родная, выпьешь грамм двести, и сразу голова светлеет, всякие мысли появляются, все беды пропадают, легкой становишься и еще счастливой, будто вновь под венец встала. Портвейн — чистая муть, один перевод денег, надо чуть ли не литр выдуть, чтоб пробрало. Одно хорошо — пахнет приятно…
— Точно, — согласилась Аглая.
— Водка, верно, лучше, но хорошо пьется и бренди.
— Что за бренди? — не поняла Аглая.
— Это… — Лиза не сумела объяснить и приложилась к рюмке, отпила глоток.
— Завидую тебе, — призналась продавщица. — Обличие чисто городское — сумела к культурной жизни приткнуться. Не то что мы, дуры, прозябаем вдали даже от райцентра, нет ни одного непьющего мужика, кто бы мог стать мужем, так в девках и помрем. Я тоже могла в городе жить, да жизнь другим концом обернулась — не передом ко мне встала, а задом. Это в городе замуж выйти раз плюнуть, а у нас, как парень отслужит в армии положенный срок, сразу на Север вербуется к газовикам или нефтяникам…
— Точно, — вновь согласилась Аглая.
— Помолчала бы, не тебе говорить! Ты-то нашла кому голову на плечо склонить! — обернулась к Лизе и объяснила: — Про школьного завхоза толкую. Майор, двадцать лет прослужил, а как вышел в отставку, жена стала хвостом крутить. Ну, развелся с шалавой, оставил квартиру и к нам перебрался, за ремонтом здания следит. Многие бабы на него зарились, а она, — Степанида кивнула на умолкнувшую Аглаю, — вмиг к рукам прибрала, точнее, заграбастала, не знаю, чем привлекла. А мой который уж год на лесоразработках в Коми, ни слуху ни духу не подает: и не вдова, и не бобылка, а невесть кто, одна в холодной постели сплю!
— Да я, да ты, да он… — заспешила Аглая, но Лиза вовремя погасила вспыхнувший было спор:
— Не ссорьтесь, девочки, лучше выпьем, — и наполнила рюмки.
Степанида послушно взяла рюмку, но не спешила ее осушить:
— Чего все про нашу житуху говорим? Расскажи про себя, как в городе, какие имеешь планы.
Лиза повела плечом:
— Живу, не жалуюсь. Работа сменная: неделя днем, неделя — ночью. Зарплата твердая, плюс премиальные за перевыполнение плана. Зимой сдала на высший разряд, начальник обещал поставить бригадиром, тогда ставка вырастет. Жду, чтоб жилье выделили как передовице, чтоб проститься с общежитием.
— Чего замуж не выходишь? В городе это раз плюнуть.
— Не говори, ухажеров много: и на свиданьице позовут, и в кафешку иль кино сводят, и всякие шуточки на ушко нашепчут, а как дело доходит до того, чтобы расписаться, сразу шмыг в кусты, поминай женишков как звали.
— Почем кофту брала? — перебила Степанида и пощупала у Лизы рукав.
— Чуть больше тысячи, импортный товар, то ли итальянский, то ли французский, чистый мохер.
Гости хотели еще о чем-то спросить, открыли рты, но осеклись: Лиза достала пачку невиданных в Кураполье черных сигарет, зажигалку, прикурила, затянулась дымком.
— Чего глаза вылупили? — удивилась приезжая.
— Дай и мне! — расхрабрилась Степанида. — Была не была, где наша не пропадала! — неумело прикурила, закашлялась, не сразу отдышалась.
— Не знаю, как вы, девочки, а я своей жизнью довольна, — продолжала Лиза. — Одно плохо — своей квартиры не заимела, по этой причине не забираю дочь, — отыскала взглядом девочку, протянула конфету.
— А как насчет личной жизни? — с опозданием поинтересовалась продавщица.
— Есть один мужик, не скажу, что писаный красавец, но и не урод, обходительный. Одно плохо — женат, вторую половину терпит из-за детишек, ждет, чтоб подросли, встали на ноги и тогда ко мне насовсем переедет.
— Снимем квартирку, поднакопим деньжат и свою купим.
— А как у него с… — Аглая собралась закончить фразу, но увидела Жалейку и осеклась.
— Шла бы гулять! — приказала Евдотья. — Негоже ртом мух ловить, взрослые разговоры слушать.
Жалейка выскользнула из дома, присела на подгнившую ступеньку крыльца, стала слушать доносящийся смех, звон рюмок.
Застолье завершилось поздно вечером. Гости долго прощались. Аглая извинилась, что пора встречать с выпасов стадо, проводить вечернюю дойку, не то бы еще поговорила с товаркой по душам. Степанида помалкивала. От гостей остались пустые бутылки, нарезанная колбаса и винное пятно на скатерти.
Готовить домашние задания было поздно, да и не хотелось: Жалейка из угла не сводила взгляда с матери, которая размазывала по лицу слезы, отчего на щеках появились похожие на чернильные пятна потеки туши, и жаловалась Евдотье:
— Отчего я такая невезучая, точно проклятая? У всех все как у людей, у одной у меня наперекосяк жизнь идет! Который год бьюсь словно рыба об лед, ищу свое счастье, а оно все стороной обходит!
— Будет реветь-то, — постаралась успокоить Евдотья, и как когда Лиза была маленькой, прижала к груди, погладила вздрагивающей ладонью растрепавшуюся прическу. — Иди на боковую, поздно уж.
Лиза подняла опухшие от слез глаза:
— Никому не понять, как осточертело общежитие, тянуть от аванса до получки! В городе деньги сквозь пальцы точно вода текут, не успеешь оглянуться и ты в долгах, как в шелках. В городе житуха не чета вашей — соблазны на каждом шагу. Прежде пыталась замуж выскочить за состоятельного, пусть в летах, лишь бы имел квартиру и не был жмот, потом потеряла надежду, нынче ни девка, ни разведенка.
Евдотья с трудом приподняла дочь со стула, довести до кровати не хватил сил, пришлось звать на помощь внучку. Плачущую Лизу раздели, уложили. Она продолжала обвинять весь белыйс в е т, в т о м ч и с л е м а т ь, ч т о н и к т о н е у д о — сужился заглянуть ей в душу, понять.
Дождавшись, чтобы дочь угомонилась, уснула, старуха подобрала с пола кофту, юбку. Жалейка взяла материнские туфли и только сейчас заметила под кроватью камышовую дудочку. Обрадовалась, что дорогая вещичка не пропала, подняла и увидела, что дудочка сломана.
«Не беда, — успокоила себя девочка. — Отыщу на Мшаве нужный камыш и сделаю певучей прежней».
Когда Евдотьяп о г а с и л а с в е т, Ж а л е й к а у ю т н о у с т р о и — лась в своем углу под одеялом и вспомнила, как непохоже ни на что пахли апельсины, что парочку сохранила про запас, чтоб угостить подружек — пусть позавидуют, полакомятся… Веки стали набухать, становиться тяжелыми. Жалейка проваливалась в пустоту, откуда выплыли озеро, учительница со странным отчеством Африкановна, мать с красивыми ногтями, теплой подмышкой, в дорогой кофте… Неожиданно все заслонили задиристые мальчишки с противными, похожими на скрип мела по доске голосами. Жалейка сжала кулачки, чтоб ринуться в бой, дать отпор, но все заволокло серым, затем черным туманом.
Спустя два дня Лиза вернулась в город, и в ту же ночь на Кураполье свалился первый, еще мягкий, недолгий, растаявший к полудню снег. Дворовые собаки попрятались в конуры, не желая мокнуть, в курятниках затихли куры.
— Это еще не зима, а предзимье, зиму надо ждать к ноябрю. Природа показывает норов, предупреждает, что лету конец, осени жить последние денечки, впереди холода, метели с вьюгами. Пока с неба сопли сыплются, — глубокомысленно изрек Авилов.
— И Мшава замерзнет? — спросила Жалейка.
— Год на год не приходится, то в октябре льдом покроется, то позже. Коль надумала поплавать, так не советую — стылая Мшава, простуду схватишь иль что посерьезнее, в больницу отвезут.
Девочка не призналась, что желает успеть нарезать про запас камышовые стебли для новых дудочек.
Следом за первым снежком ночью ударил мороз, заковал до звона глинозем, засеребрил крыши.
Нарядившись в чиненый-перечиненый полушубок, Евдотья вышла к колодцу и столкнулась с почтальоном.
— Распишись, тетка Евдотья, в получении.
— Неужто деньги от Лизки?
— Не угадала: повестка из района. Вызывает военком, ждет с утра и до вечера кроме воскресенья.
Листок имел печати — черную почтовую и фиолетовую. Не дожидаясь возвращения из школы внучки, Евдотья обулась в подшитые резиной валенки и заспешила к околице, где дождалась машины в райцентр. В благодарность призналась водителю, по какой надобности бросила все дела по дому.
— Зачем понадобилась военкому? — удивился водитель. — Неужто попала под мобилизацию? Так возраст давно не призывной!
Пока старушка тряслась в кабине, а машина разбивала на ухабистой дороге в лужах ледок, водитель рассказал, как в свое время уходил на два года служить, убегал из части на свиданье с бойкой медсестрой, за что получил пару нарядов вне очереди… За элеватором машина замерла, точно вкопанная.
— Дальше, извини, пойдешь на своих двоих: тебе, бабка, в райцентр, а мне в заготконтору.
Шагать на осатаневшем ветру было трудно — ветер норовил свалить с ног. В центре поселка у первого встречного спросила, где военкомат — он оказался почти в двух шагах. В здании первым делом поклонилась девушке у пишущей машинки, стучавшей по клавишам не шибко быстро — мешали длинные ногти.
— Начальник вышел! — не дала договорить девушка и так сильно ударила по клавишам, что машинка жалобно звякнула. Старушка присела на краешек стула, решила, что такая, как у девушки, работа требует сильно грамотных. Что-либо еще подумать не успела: входная дверь распахнулась, пропустив статного военного.
— Все женихов ждешь? — весело спросил вошедший у секретарши, но увидел старушку и посерьезнел: — Вы ко мне?
Евдотья без слов протянула повестку.
Военный взглянул на листок, резко обернулся к девушке:
— Твои делишки? Как могла вместо приглашения отправить повестку? Отчего не организовала транспорт в Кураполье, заставила человека в годах самой к нам добираться? — военком взял Евдотью под руку, помог пройти в кабинет, где усадил в кресло.
— Прошу прощения за сотрудника, допустившего халатность. У меня, уважаемая… — он взглянул в повестку, — Евдотья Митрофановна, почетная миссия. Как вдова участника Отечественной войны, гвардии старшего сержанта Емельянова Афанасия Михайловича…
Стоило Евдотье услышать полные имя-отчество мужа, как сдавило дыхание, сердце забилось сильнее и чаще, словно желало выскочить из груди. Для Евдотьи муж был и навсегда остался Афоней, как окликала его, когда был рядом, звала в своих думах. Единственный раз назвала Афанасием при выписке из больницы с новорожденной дочерью: «Держи, Афанасий, свою кровиночку», — и протянула сверток с ребеночком. Афоня, не скрывая боязни, взял ребеночка, прижал к груди, привыкшие к работе руки напряглись, дрогнули… Спустя год мужа вместе с курапольскими парнями призвали в армию. Евдотья пустила слезу и с другими женами долго провожала взглядом ушедших, не ведая, что с войны назад вернется лишь один, и тот без ноги…
Военком перечислил неведомые Евдотье города, какие освобождал Емельянов А. М., когда назвал Берлин, старушка встрепенулась: «До главного у врагов города дошел».
— Поздравляю! Передаю как ближайшей родственнице для хранения в семье.
— Что это? — Евдотья приняла красную коробочку, услышала:
— Орден, его орден. Извините, что вручаю с опозданием, но в архиве лишь недавно нашли наградной лист на вашего мужа.
— А могилку Афони отыскали?
— В дни штурма немецкой столицы погибших хоронили вместе, в братских захоронениях, — словно извиняясь, военком добавил: — Предавали земле с воинскими почестями, позже установили монумент.
Назад в Кураполье Евдотью отвезли на легковой машине. За пару километров до села старушка попросила водителя остановиться:
— Дальше на своих двоих дойду, уже близехонько, да и можете завязнуть на распутье — там яма на яме…
Не призналась, что желает побыть одна, поразмыслить о прожитом, незабываемом. Поблагодарила, ступила на дорогу, затем свернула на тропу, где не было луж-ледянок — и до Кураполья было ближе. Шла и не замечала, что платок сполз на плечи, голова намокла от снежинок.
Казалось, что идет не одна, а вместе с Афоней, словно все возвернулось и, как много лет тому назад, муж провожает с посиделок или гулянья, которое сельская молодежь устраивала за селом: парни чадили самокрутками, девушки лузгали семечки, играл баянист. Танцевали до полуночи, затем разбивались на парочки. Афоня стеснялся взять за руку, не то чтобы приобнять, лишь у Кураполья набрался храбрости и положил руку на плечо, отчего вся сжалась, не зная, как поступить — то ли рассердиться, смахнуть руку, то ли прижаться к парню. Возле дома Афоня окончательно осмелел, попытался обнять, но она вырвалась: «Нечего руки распускать! Трактор свой обнимай! Он бессловесный, все стерпит и промолчит!» Припустилась бежать, и когда оказалась за калиткой родного дома, вспомнила советы умудренных жизнью подружек: «Держи Афоню, не выпускай, не то другая к рукам приберет. Сохнет он по тебе». Евдотья чуть не заплакала от обиды за парня, который досрочно полез обниматься, еще за собственную гордыню, которая оттолкнула парня. «Ну обнял бы, даже поцеловал — от этого у меня ничего не убыло! Коль обиделся, может к другой, более сговорчивой, пристать, та мигом обкрутит. Дура я!»
Но настал новый праздничный день, а с ним танцы на полянке, и Афоня оказался рядом, приглашал на все танцы, к концу напросился снова в провожатые, и Евдотья, не в силах произнести даже слово, кивнула. По пути в Кураполье парень не притронулся, даже не взял за руку, отчего Евдотья чуть не заплакала. Плакать пришлось спустя полгода, летом 1941 года, когда провожала мужа на фронт. Как в молодые годы, глаза повлажнели, но слезы были не радостными, а печальными.
«Напрасно думала, будто все Афоню позабыли, лишь одна я его вспоминаю, а порой является во сне. Надо Лизке непременно отписать про орден, пусть порадуется за отца. Жаль, внучка мала и не сумеет письмо составить, придется грамотного звать, можно Авилова: две газеты выписывает…» Старушка не обращала внимания, что неяркое солнце скрылось за облаками, которые переросли в низкие тучи, что поднялся ветер. Воспоминания грели. Перед помутневшим взором муж стоял как живой, Евдотья слышала его глуховатый от табака голос, но не успела разобрать, что говорит, как перебил плач жалейки.
Евдотья приложила ладонь к уху, вслушалась: жалейка плакала где-то рядом. Оглянувшись по сторонам, старушка приметила внучку, которая догоняла, продолжая дудеть в жалейку. Когда старая и малая Емельяновы встретились, Евдотья первым делом взглянула на ноги внучки и успокоилась: Жалейка была не в предназначенных для хождения в школу ботинках, а в старой обувке, тем не менее строго спросила:
— Чего в распогодицу вздумала гулять? Про уроки, чай, забыла. Куда ходила?
— На Мшаву, — призналась девочка. — Надо было камышинок срезать про запас. А то, что заветрило, так это к лучшему, при ветре камыш поет, легче выбрать голосистый, какой подходит к жалейке.
Евдотье хотелось поделиться радостью — орденом, но решила, что это не к спеху, лучше рассказать не на ходу, не спеша, с толком, расстановкой.
— Ступай вперед, — приказала старушка. Так как тропа была узка для двоих, двинулась за внучкой в Кураполье, где никто не ведал, что еще один курапольчанин не пропал на войне без вести, что отыскалась в чужой стране его могила. Евдотья шагала, забыв про боль в ногах, и прятала в щербатом рту тихую улыбку.
Графомания — страсть к бесплодному писанию, пустому сочинительству.
Прежде никаких тайн от жены с сыном Степан Иванович Каныхин не имел. Другие мужики в получку делают «заначку», припрятывают часть денег, чтоб потратить на лишнюю кружку пива или распитие четвертинки в кругу друзей, а если опаздывают домой со смены, то напропалую врут, будто было собрание в цехе или сверхурочные. Сосед по этажу как-то в минуту откровения признался Каныхину, что тоже одно время кое-что скрывал от супруги:
— Зазнобу заимел, в сберкассе работала, ну и зачастил к ней. Лицом смазливая и фигуристая. Чуть из семьи не увела, да только я не поддался. Как поняла, что на себе не женить, прогнала. Сейчас на продавщицу из ларька переключился.
— Поменьше болтай, — посоветовал Каныхин, — не то жена с тещей узнают и скандала не оберешься.
Сам Степан Иванович ничего от домашних не утаивал — вся его жизнь была у них как на ладони, даже про шалости в холостяцкий период знали и за давностью не осуждали. Тайна появилась у Каныхина в минувшем году и была настолько сокровенной, что Степан Иванович боялся о ней проговориться даже во сне.
Все случилось душной летней порой в полночь. Не спалось, и Каныхин вышел на балкон, где дышалось легче. «Смолил» сигарету и слушал ночь, которая была тиха до звона в ушах. И в эту тишину вдруг ворвался низкий женский голос, выводящий грустную песню.
«Не полуночник, вроде меня, запел, радио включили, — определил Каныхин. — Классно поют, голос душевный, и слова от самого сердца…»
Когда песня умолкла и строгий мужской голос стал зачитывать сводку погоды, Степан Иванович всмотрелся в звездное небо и повторил слова песни, которая запала в память, но на втором куплете споткнулся: «Как там дальше? — поскреб затылок и, сам того не ожидая — вот напасть-то! придумал продолжение: — Ишь ты, вроде песню новую сложил, точнее, чужую дополнил, и вышло сильно складно!»
От удовольствия зажмурился и увидел себя мальчишкой, каким был полвека назад — конопатым, с выпирающими ключицами и ссадинами на коленках, задиристым, неугомонным, а еще изрезанную бороздами пашню. «А борозды тянулись аж до горизонта — вроде как до самого неба, конца-края им не было. И облака над полем плыли белые, точно гуси. А по борозде текла заря…»
Борозды, до одури пахнущая мятой земля, облака-гуси, будто живая заря, — все собралось в узел, переплелось и стало песней: слова подобрались сами, крепко притерлись друг к другу.
«Ну и учудил! — крякнул Каныхин, удивившись цепкой памяти. — До мелочей все-все помню, что память сохранила, в новую песню вылилось! Записать надо, не то позабуду…»
Чтобы не скрипнули половицы, стараясь не разбудить сына с женой, постарался неслышно вернуться с балкона в квартиру. Взял карандаш, чистую тетрадку и стал писать: загрубевшие от работы у станка, отвыкшие от ручки и карандаша руки слушались плохо, отчего буквы вышли корявыми.
Следом за первым куплетом записал второй, а там и третий, отчего получилась целая песня, где говорилось о детстве, и уйти от воспоминаний было невозможно.
Каныхин продолжал изливать на бумагу накопившееся, не заметив, что луна в небе побледнела, крыши соседнего дома высветил робкий рассвет. Он не подбирал слова — они сами рвались в тетрадь. Степан Иванович чувствовал себя небывало счастливым, даже окрыленным: казалось, прикажи полететь — и полетел бы, распластав руки, точно крылья… Счастье было похоже на то, какое Каныхин испытал, когда узнал о рождении сына-первенца. Тогда тоже не спалось, хотелось петь, танцевать вприсядку. И вот новая благодать, точно второго сына на свет произвел или сам заново родился.
«Чего с тетрадкой делать? Попадет Витьке иль Свете — засмеют, скажут умом тронулся, сраму не оберусь…» Сложил тетрадь и спрятал в прихожей за вешалкой. С той ночи фрезеровщик высшего разряда Каныхин С. И. стал сочинителем. Больше писал о природе. Строчки стихов являлись в любое время, даже в гудящем цехе, в заводской столовой. Стихи (Каныхин их звал «песнями») лились рекой, заполняли тетрадку.
Отныне в газетах первым делом искал стихи, если не находил, расстраивался, словно обокрали. «Без песен газета скучна, пресна. Отчего песни печатают лишь в книгах?»
Впервые переступил порог заводской библиотеки, смущаясь, попросил песни, то есть стихи. Девушка с резко подведенными бровями, синими веками заполнила на Каныхина карточку-формуляр, где в графе образование записала «среднетехническое». Скрылась за стеллажом с книгами и вернулась с томиком, на обложке стояло непонятное Степану Ивановичу слово «сонеты».
— Пушкина, Лермонтова и Есенина не предлагаю — их вы изучили, даже заучивали наизусть в средней школе.
«Сонеты» сочинил неизвестный Степану Ивановичу Вильям Шекспир. Каныхин кашлянул в кулак, собрался попросить другую книгу, поэта с русской фамилией, стал листать томик, и взгляд остановился на строчках:
Осень шла, ступая тяжело —
Как оставшаяся на сносях вдова…
Вернулся к началу стиха и удивился, что иностранец изъяснялся очень понятно.
Казалось мне, что все плоды земли
С рождения удел сиротский ждет.
Нет в мире лета, если ты вдали.
Где нет тебя, и птицы не поют.
А там, где слышен робкий, жалкий свист,
В предчувствии зимы бледнеет лист…
Дома, забыв про телепередачи, прочел книгу от корки до корки, не пропустил вступительную статью, примечания. На следующий день снова пришел в библиотеку.
— Мне бы еще товарища Шекспира Вильяма. Иностранец, а сочинял будто русский.
Губы девушки собрались в улыбку.
— Могу предложить пьесы Шекспира, они тоже в стихах.
С той поры Каныхин стал исправно посещать библиотеку, за месяц перечитал все имеющиеся сборники стихов, больше всего порадовался поэме про бравого солдата Василия Теркина.
Время шло к зиме. Морозы ударили сразу за дождливым октябрем, были небывало крепкими, точно крещенскими. Зимой песни рождались реже. Причиной тому была работа, как на производстве, так и по дому: то почини кран, то утепли рамы на окнах, то поменяй замок на входной двери. Когда дел поубавилось, песни явились снова. По ночам Каныхин устраивался на кухне и записывал новые строки. Не задумывался, как подобрать слова покрасивее — они сами приходили, точно прежде сидели под замком, но Степан Иванович выпустил их на свободу, и они послушно ложились на бумагу.
Зима шла на убыль, когда Каныхин набрался храбрости и в день отгула на заводе поехал в центр города. У подъезда редакции газеты стянул с головы шапку, вошел в здание, поднялся на лифте, остановил мчащегося по коридору человека:
— Извинения прошу. Мне, это самое, песни показать. К кому, точнее, куда стукнуться?
— Отдел культуры пятый кабинет! — ответил на ходу работник газеты.
Возле нужной двери Каныхин в нерешительности потоптался, робко постучал, услышал «войдите», переступил порог. За столом сидел почти ровесник сына.
— Я вот… песни принес…
— Оставьте, ответит наш литконсультант, — перебил парень.
— Отвечать не надо! — забеспокоился Каныхин: ведь стоит домой прийти письму из газеты, как тайне настанет конец. — При мне прочтите, узнать надо: стоящие песни или нет.
Он положил тетрадь на край стола и сдержал дыхание. Ладони покрылись потом, стал тесен ворот рубашки.
— Давно пишете? — не глядя на посетителя, спросил парень.
— С минувшего лета, — не своим голосом признался Каныхин.
— На металлическом, фрезеровщиком.
— В школе и дальше в ПТУ.
Журналист полистал тетрадь.
— Должен разочаровать: ни одно стихотворение опубликовать нельзя.
— И не надо! — заспешил Каныхин. — Не для того пришел, хочу лишь узнать…
— Стихи умозрительны, нет художественной выразительности, глубоких, оригинальных мыслей, чувств, рифмы банальны, шаблонны. Чтоб успешно заниматься литературным творчеством, необходимы глубокие знания, не говоря про талант. Страдает элементарная грамотность, путаетесь в размерах. Но главное — стихи слишком прозаичны.
Говорил журналист словно по написанному или заученному, что прежде говорил другим. Чтоб не отвлекать занятого человека от дела, Каныхин сказал:
— Прощения прошу, большое спасибо, — взял тетрадь, затолкал в карман, попятился к выходу. В коридоре перевел дыхание и посторонился, пропустив в кабинет человека с растрепанной прической.
— Очередной жалобщик? — услышал Степан Иванович.
— Очередной графоман, — ответил парень. — Везет на них, чуть ли ежедневно являются. На этот раз покладистый, не агрессивный, а бывают, что прижмут, требуют немедленно публиковать, жалобы строчат…
О чем еще говорили за неплотно прикрытой дверью, Каныхин не стал подслушивать. Покинул здание, твердо решив поставить на песнях крест: «Хватит, насочинялся! Сколько времени и сил зазря угробил. У одних способность к сочинительству, у других к металлу, фрезеровальному делу… Но отчего обозвал графоманом? На графа по всем статьям не смахиваю…»
Дома спросил у сына:
— Похож я на графа?
У Витьки на губах появилась улыбка, затем сын заржал:
— Ну, ты, батя, даешь — граф! Не тянешь на него, и на князя тоже, как был пролетарием, так им и остаешься!
— С ним серьезно, а он гогочет! — обиделся Степан Иванович.
В ужин сослался на отсутствие аппетита, потыкал вилкой в яичницу, отпил пару глотков чая. Когда семья улеглась, дождался, чтобы жена уснула, прокрался на кухню. Сел у окна и стал смотреть на ущербный месяц над крышами. В ночи во всех домах погас свет. Тусклая лампочка у подъезда неярко освещала синие сугробы, которые отбрасывали причудливые тени, с затаенным страхом ожидая наступления весны, капельного марта.
«А капель бывает звучной, когда ветер с деревьев сметает снег, будто лебеди летят…» — размышлял Каныхин и дальше уже в рифму:
Услыхала звонкую капель,
Встрепенулась на опушке ель.
Со своих раскидистых ветвей
Уронила белых лебедей.
Стройная, с иголочки наряд,
Синевой вокруг снега горят.
А в овраге с каждым днем звончей
О весне-красне поет ручей.
Захотелось немедленно записать все придуманное, но в комнаты было нельзя возвращаться, иначе разбудишь сына с женой. И Степан Иванович остался у окна, зябко обхватив руками голые плечи, грея у радиатора ноги, продолжая смотреть на ночь, где рождалась новая песня.
И аплодисменты в придачу
Повесть в 2 отделениях с антрактом
Оркестранты рассаживались перед пюпитрами, листали ноты, расчехляли инструменты, кто-то «продувал» трубу, другой водил смычком по струнам скрипки, отчего в заполняемый зрителями цирк летели звуки настройки. Не готовился к утреннему представлению лишь Гоша Боруля. Несобранный, часто являвшийся на работу подшофе, любящий похвастаться своим бешеным успехом у женщин трубач вслух мечтал:
— Пивка бы дерябнуть. Жаль, на утренниках в буфете один лимонад и пепси. Придется с собой приносить, и еще воблу… Если и вечером пиво не завезут, погорит дирекция синим пламенем: без наличия в цирке пива публика нас проигнорирует, не затащить даже на аркане.
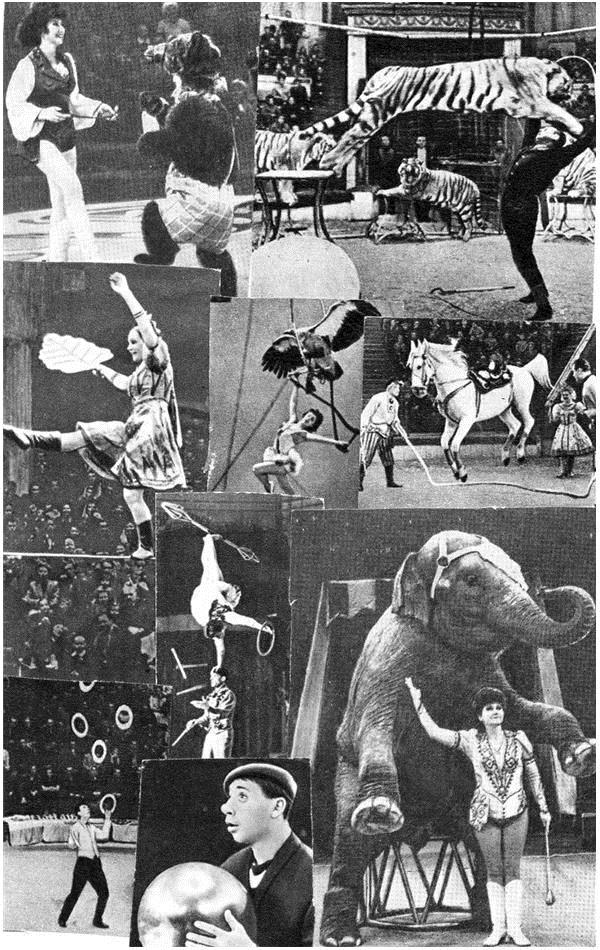
Первым не выдержал тромбон:
— Зрители не могут знать, есть в цирке пиво или нет.
— Плохо знаете публику, у нее, как в разведке, точные сведения, что имеется в буфете.
— Между прочим, — не глядя на Гошу, продолжил тромбон, — вчера во втором отделении вы сфальшивили в «Танце с саблями». С чего бы это? Пиво в буфете отсутствовало.
— Точно! — согласился Гоша. — Фира догадывалась, что выручки не будет, покинула наиважнейший у нас пост. — Гоша наклонился к тромбонисту: — Напрасно при худобе не употребляете божественный напиток, который дарит крайне необходимую вам полноту.
— Лучше оставаться худым, нежели выдавать фальшивые ноты, как первоклашка музшколы!
Пикировка оркестрантов на этом не закончилась — Гоша завелся:
— Будь я заведующим городским управлением культуры, приказал бы выставить вас в музее, как ценнейший экспонат, образец трезвости. Рядом поставил зеркало, чтоб заблудшие души, кто не может обойтись без ста грамм алкоголя, увидели себя со стороны, поняли, что водка или портвейн делают с человеком.
Вокруг сдержанно рассмеялись.
— Не вижу ничего смешного! — буркнул тромбон.
Администратор нервно крутил на телефоне диск, делал вид, будто не видит электрика.
— Ну что вам стоит! Одну контрамарку прошу! — канючил электрик.
Администратор сдвинул к переносице брови. Настроение было хуже некуда. Во-первых, в отсутствие директора приходилось самому решать массу вопросов. Во-вторых, зрительный зал заполнен на две трети, хотя воскресенье, спектакль утренний с дешевыми билетами — город заклеен афишами аттракциона белых медведей, дрессированных собачек, акробатов и заслуженного клоуна.
«Напрасно поспешил уйти из музкомедии, — не в первый раз ругал себя администратор. — Там не приходилось ломать голову над выполнением финансового плана: на Кальмана, Оффенбаха шли толпы. Надеялся, что и в цирке будет аншлаг, стану снабжать билетами спекулянтов, иметь от этого неплохой навар, на деле все вышло не так, как мечтал…»
— Ну пожалуйста! — продолжал электрик. — Невесту пригласил…
Администратор бросил трубку:
— Какая это по счету невеста? На прошлой неделе уже приводили одну. Имеете персональный гарем? — бороться за чужую нравственность не было ни времени, ни желания, на бланке пропуска черкнул ряд, место. И не успел электрик раствориться, как в окошко протянули удостоверение весьма авторитетного учреждения.
— Два места в ложу! — приказным, не терпящим возражения тоном сказали за окошком.
— Сей момент! — заспешил администратор.
Контрамарки были заранее подписаны директором, следовало лишь вписать число и места.
С кисточкой на конце хвоста, подстриженную под льва пуделиху в связи с преклонным возрастом не выводили в манеж, но бывшая премьерша номера «Дрессированные собачки» не могла свыкнуться с бездельем, рвалась работать. Чувствуя, что настает время показывать свое мастерство, нервно носилась по гримерке, а стоило Малышеву встать на пути, оскалила редкие желтоватые зубы.
— Ревнует, — улыбнулась Будушевская.
Клоун опустился на колени и залаял на собачонку, чем привел ее в ужас, заставил удрать под диван.
— Перестань, — попросила Будушевская: скверное с утра настроение прошло, забылась даже новая морщина под глазом, обнаруженная при наложении грима, вспомнился утешительный афоризм: «Морщины — следы былых улыбок».
Малышев поднялся с пола:
— Ты что-то сказала? Извини, прослушал.
Ирина Казимировна нахмурилась: «Боже, неужели стала думать вслух? Это старческий маразм, скорее, склероз!»
Еще раз всмотрелась в трюмо, осталась довольна своим видом.
— Я готова, а тебе нелишне поправить парик, он съехал на затылок. Случись подобный конфуз на публике, не оберешься стыда.
— Наоборот, будет смешно.
— Не скажи, окажись я в манеже в подобной ситуации, провалилась бы от стыда сквозь землю, точнее, опилки.
Ирина Казимировна собралась что-то сказать, но тут за тонкой стеной послышался гортанный голос, следом грохот разбившегося. Будушевская изменилась в лице — пропала безмятежность, которая очень шла актрисе.
— Черт знает что! Опять Али устроил скандал! Настоящий тиран, постоянно без причин ревнует бедную Люсю чуть ли не к каждому столбу! Не прощу себе, что не отсоветовала девочке связывать жизнь с этим чудовищем. Когда пришла посоветоваться принимать ли предложение, я дипломатично ответила, что пусть сама делает важный выбор. И вот результат! Смеет мучить девочку перед выходом в манеж! Забыл, что нервные клетки не восстанавливаются, артисту запрещено нервничать перед работой. Придется жаловаться на Али в местком: пусть разберут поведение, как следует приструнят.
— Не надо, — мягко попросил Мальцев. — Не стоит вмешиваться в чужую личную жизнь, тем более молодую семью, они во всем разберутся сами. Что касается трепки нервов, поговорю с Али, напомню, что надо беречь жену-актрису.
— Знаю Люсю с пеленок! Она выросла на моих глазах, точнее, руках. Давно не чужая. Это я вытирала ей сопли, укладывала спать, когда отец репетировал на ночь глядя, заплетала косички, провожала в первый класс, контролировала домашние задания, и это в то время, когда ее родная мамочка жила в свое удовольствие в Саратове!
— Она уехала по необходимости, не к новому мужу — между прочим, одинока. Знала, что отец поможет Люсе стать актрисой, и не ошиблась — сейчас, сам знаешь, первоклассная гимнастка.
Будушевская не могла успокоиться:
— Не уводи разговор в сторону. Я про Али, а ты про мать. Как все азиаты, он ревнив, ревность может привести страшно подумать к чему.
— Обедаем после утренника или позже?
— О чем ты, какой обед?
Малышев подозвал собачку:
— Нас опять не понимают, Чапа.
Дирижер вошел в оркестровую ложу, тяжело дыша, точно пробежал стометровку.
— Всем общий привет! — на ходу, не успев встать перед пюпитром с нотами, скороговоркой произнес дирижер. — Прошу номер первый, выходной марш!
Взмах палочки — и грянувший оркестр заставил зрителей прекратить хрустеть обертками конфет, шоколада, печеньем, переговариваться, ерзать на креслах.
Выходной марш был сочинен до войны для ставшего популярным кинофильма. Автор музыки был молод, талантлив, не помышлял о славе, лауреатстве, что свалилось на композитора позже, мелодия получилась искрящейся, очень цирковой, ставшей негласным гимном работников манежа. Марш полюбили не только зрители фильма, но и артисты со зверями, последние, стоило услышать в клетках, загоне, стойле знакомую мелодию, замирали, с нетерпением ожидая вывода под слепящие лучи прожекторов в многолюдие на манеж.
ИНСПЕКТОР МАНЕЖА Ю. Н. ЛОСЕВ
Он выходил в манеж с последним взмахом дирижерской палочки — так было эффектнее, артистичнее. И на этот раз, услышав последние аккорды, Юрий Николаевич смахнул с лацкана смокинга невидимую пылинку, расправил плечи: «Пора!».
Инспектор манежа сделал знак униформистам [1] , чтобы те распахнули форганг [2] .
Лосев приближался к центру перекрещивающихся лучей, приготовился произнести привычное «Добрый день! Начинаем представление! Первым номером нашей программы…», как глаза затмил мрак, ноги стали ватными, в висках застучало, затылок отяжелел, руки повисли как плети…
«Вот уж совсем не вовремя!» Последний раз контузия дала о себе знать минувшей осенью, когда зачастили дожди, по утрам на крыши домов оседал, но быстро таял туман, с громадного панно у входа в цирк потекла краска, и нарисованные слон с дрессировщицей стали, похожими на абстрактное полотно. Пришлось вызвать врача, тот прописал постельный режим, всякие процедуры, но спустя сутки Лосев вышел в манеж, вновь ходил улыбчивым, острил направо и налево, сыпал анекдотами, собирал вокруг себя любителей посмеяться.
— С вашим талантом коверным быть, стали бы вторым Карандашом, — советовали инспектору, на что Лосев неизменно отвечал:
— Быть вторым в искусстве уже не искусство. Что касается коверного, то однажды подвизался в этой роли, к счастью, недолго.
Признание произнес с грустными в голосе нотками, причиной было воспоминание о послевоенном жарком лете в Камышине, где Лосеву пришлось заменять уволившегося клоуна, исполнять и роль зазывалы. До этого были армия, ранение, госпиталь, возвращение в действующую, демобилизация и встреча с руководящим товарищем в Управлении Союзцирка. После высказанной просьбы вернуться к прерванной войной работе услышал:
— Какая нынче работа? На всю страну остались считанные, в аварийном состоянии здания цирков, пришлось в срочном порядке сооружать из трофейной парусины пяток шапито [3] , отправить их на гастроли по городам и весям. Вот восстановим цирки в Киеве, Минске, Одессе, тогда милости просим. Кстати, что собираетесь работать? Воздушную акробатику? Но согласно справке были тяжело ранены, — чиновник уперся взглядом в палку в руке просителя.
— Рана зарубцевалась, — ответил Лосев. — Пока будете оформлять на работу, возвращать довоенную тарификацию, выброшу палку.
— Реквизит при вас?
— Погиб летом сорок первого.
— С партнером, вместе работали во фронтовой бригаде. Если нужны документы…
Чиновник замахал руками, точно оборонялся от назойливого шмеля:
— Верю на слово! Взяли бы как заслуженного фронтовика с закрытыми глазами, но выступать негде. Могу предложить место в передвижном зверинце обслуживать хищников. А еще…
Лосев не стал дальше слушать, резко повернулся и вышел, громко хлопнув дверью. Сделал это вовремя, иначе наговорил, точнее, накричал бы все что думает о наделенном властью чиновнике.
Он до боли сжимал зубы, ничего не видя, и услышал за спиной:
— Ни разу не изменяла память, сейчас она подсказывает, что имею удовольствие лицезреть товарища Лосева.
Не забыть, как с блеском выступали на трапеции, если не ошибаюсь, номер назывался «Два — Лосев — два».
Лосев впился взглядом в невзрачного, с бородкой клинышком, галстуком-бабочкой человека неопределенных лет.
— Позвольте представиться: Ржевский Борис Исакович, для друзей просто Боря. Случайно слышал ваш разговор в кадрах, киплю от негодования, что такого большого артиста, фронтовика встретили столь сухо: откуда берутся черствые души? Посмотришь — чистый ангел, не хватает лишь крылышек, а копнешь поглубже — настоящий Мефистофель…
— Короче! — перебил Лосев, не имея желания слушать словоохотливого Борю.
Ржевский мило улыбнулся, давая понять, что не станет отнимать чужое время, будет немногословен:
— Видел перед войной ваше выступление в Киеве: зрелище, скажу честно, незабываемое, первоклассно работали. Верю, что не растеряли артистизм. Предлагаю ангажемент на все лето. Если гастроли пройдут удачно, контракт продлим. Собираю исполнителей любимых публикой жанров от дрессуры до акробатики, клоунады. Вы, помнится, работали с партнером.
— Он погиб, — не желая вдаваться в подробности, буркнул Лосев.
— Значит, одни? Это легче с подселением. Понятно, о полете на трапеции речь не идет, — Ржевский покосился на палку в руке артиста. — К тому же трапецию на клубной сцене не установить. За годы войны люди ужасно соскучились по искрометному искусству, каким является цирк, простят шероховатости, не слишком богатую программу…
В коридоре было многолюдно, что мешало доверительному разговору, к тому же Ржевский не хотел встретить знакомых, кто знал его по прошлой совместной работе и был информирован, что администратор скрывается от уплаты налогов. Ржевский взял Лосева под руку и вывел из здания.
— Какие имеете в загашнике номера, что способны демонстрировать?
— Фокусы, — признался артист, — с картами, шарами, монетами.
— Уже имеется фокусник, он же чревовещатель, угадыватель чужих мыслей. Нужен шпагоглотатель, разрыватель цепей, но это, как понимаю, не для вас. Смею предложить… впрочем, язык не поворачивается произнести…
— Говорите, — потребовал Лосев.
Ржевский вновь покосился на трость, которая была с вензелем, ручка в виде головы змеи (палку преподнесли Лосеву при выписке из госпиталя), и предложил присесть на лавку в сквере.
— Набрал исполнителей чуть ли не всех в цирке жанров — есть дрессура коз, гусей, ослика, акробатический этюд, езда на одном колесе, жонгляж, чревовещание, манипуляция. Нет лишь «воздуха» — полета на трапециях, что невозможно демонстрировать в клубных условиях, и клоунады, точнее, клоуна-соло, эту роль предлагаю вам…
Лосев не спешил дать согласие. Первым желанием было встать и уйти, но вспомнил, что в искусстве нет стыдных, низших ролей-жанров.
Ржевский подсел поближе и заговорил скороговоркой, жестикулируя, словно опасался, что известный перед войной гимнаст передумает:
— Гонорар, не взыщите, зависит не от моей расторопности, а от артистов. Продкарточки обещаю рабочие. Оплата жилья за счет дирекции. Кроме заполнения пауз между номерами придется быть и зазывалой…
Наспех собранная труппа покинула столицу спустя два дня. В приволжский Камышин отправились восемь артистов, четверка гусей, ослик, две козы, обезьянка, которая, правда, ничего, кроме курения, не умела. По пути к месту работы Ржевский поведал, что их ждет город текстильщиц, где всего один кинотеатр, два дома культуры, куда ткачихи принципиально не ходят, не желая из-за отсутствия мужчин самим кружиться под радиолу.
— Из конкурентов будет лишь церковь, куда по воскресным дням стекаются верующие, но это не наша публика, наша молодая, кто забыл о Боге. Для Камышина станем праздником. Будем давать по субботам два представления, по воскресеньям три…
Членам труппы очень хотелось поверить администратору, все же фокусник спросил:
— Гарантируете полный зал?
— Без всякого сомнения, можете не волноваться! — успокоил Ржевский.
В городе поселились не в единственной гостинице, а в заводском общежитии. Администратор (себя он называл гендиректором-распорядителем) представился властям, щедро одарил чиновников, райкомовцев контрамарками на открытие гастролей.
Стоило в Камышине появиться афишам с разевающим пасть тигром (ниже мелкими буквами было написано: «Крупные хищники прибудут позже»), как к обшарпанному зданию Дома культуры текстильщиков потянулись соскучившиеся по яркому зрелищу.
С балкона всех встречал Лосев, облаченный в клоунский балахон, рыжий парик, с красным шариком на кончике носа.
— Спешите, спешите! Не прозевайте небывалое в вашей жизни зрелище. Грандиозные представления! Угадывание мыслей на расстоянии! Пожиратель огня! Танец на проволоке! Дрессированные животные! Инвалидам войны и детям билеты со скидкой!
Зазывать приходилось перед каждым представлением, когда же подходило время сеанса, Лосев выходил на сцену в роли конферансье, объявлял номера, заполнял паузы шутками, исполнял нехитрые, «с бородой» репризы. Детям, понятно, нравились животные, женщины были в восторге от атлетически сложенного бывшего боксера, игравшего гирями, сгибавшего прутья, мужчины аплодировали миловидной исполнительнице цыганских романсов. Завершал программу чревовещатель, который безошибочно отвечал, какой предмет брала у зрителей ходившая по залу ассистентка. Гвоздем был громадный пятнистый дог: стоило ему чуть сдавить пасть, как собака членораздельно произносила «ма-ма»…
К концу первой недели гастролей, радуясь хорошим сборам, Ржевский решил давать дополнительное представление. Решение администратора артисты приняли с удовлетворением — лишние деньги ничуть не оттягивали карман…
Во время очередного зазывания публики Лосев приметил мальчишку в пузырящихся на коленях брюках, наползшей на глаза кепке, галошах на босу ногу. Мальчишка не спешил к кассе за билетом, зачарованно смотрел на клоуна и, набравшись храбрости, спросил:
— А без билета нельзя?
Было невозможно не посочувствовать малолетнему любителю искусства, и Юрий Николаевич предложил провести его как родственника.
— Не, — потряс мальчишка головой. — Вы не родственник. Тетку имею, только далеко, на Украине. Еще отец, но все не возвращается, видать, мамку ищет — ее немцы в Германию угнали.
Разговорились. Лосев узнал, что мальчишка детдомовец.
— Много вас в детдоме?
— Больше ста мал-мала меньше, я-то в старшей группе, осенью в четвертый класс пойду, а малышне не до учебы.
— Знаешь что? — сказал Лосев. — Веди своих. Малышей, понятно, с воспитателями. Места не обещаю, а все проходы будут в вашем распоряжении.
На следующее представление к Дому культуры явился детский дом в полном составе. Администратор было заикнулся, что хорошо бы за бесплатное посещение получить натуроплатой — арбузами, помидорами, которые сироты выращивали, но артисты осудили за жадность. Ржевский сдался.
Представление с заполнившей проходы, ступеньки детворой прошло на отлично. Каждый из выступавших постарался продемонстрировать все, что умел, на что был способен. Певица сменила репертуар и вместо цыганского романса исполнила задорную песенку про картошку-объедение. Фокусник (он же гипнотизер, угадыватель мыслей, шпагоглотатель, пожиратель огня) к радости детворы чуть ли не из воздуха достал пару голубей, из шляпы — кролика, из носа и ушей юных зрителей — монеты. Акробаты разучили с ребятами новые упражнения. Кошки мяукали под гармошку.
Когда настала очередь клоуна, Лосев не стал играть репризу «А собачка дальше полетела» и рассказал, как пятеро бойцов держали оборону, отбивались от наседавших врагов, как от стрельбы раскалилось дуло пулемета. Слушали внимательно, ведь война прошлась тяжелыми сапогами по душе каждого сироты, сделала их взрослее.
— Дети ожидали, что рассмешите, а вы… — осуждающе заметил Ржевский.
На следующий день Лосев вновь увидел у Дома культуры знакомого мальчишку. Ничего не говоря, взял за руку, привел за кулисы, где рядом с переодевающимися артистами стояла клетка с голубями, лежал реквизит, под ногами бегали собачки, к коробке с пудрой принюхивался кот.
Мальчишка на все и всех смотрел широко распахнутыми глазами, с открытым ртом, все было в диковинку, особенно обезьяна, которая в представлении не участвовала ввиду преклонного возраста и скверного характера. Когда прозвенел первый звонок, Лосев предложил мальчишке пройти в зал, но услышал:
— Соврал я, будто отца жду: не вернется он с мамкой. На отца пришла похоронка, а мамку фашисты расстреляли…
Лосев положил руку на хрупкое детское плечо, крепко обнял.
Витя Ряшин (так звали мальчишку) стал приходить на представления ежедневно, благо, шли школьные каникулы. Смотрел выступления из-за кулис, был безмерно счастлив от того, что стал среди артистов своим. После окончания последнего за день сеанса спускался с Лосевым к Волге, усаживался у воды и провожал пароходы, баржи, танкеры. Не сразу рассказал, как перед войной отец купил голубей, соорудил во дворе голубятню (птиц пришлось съесть, когда в оккупации кончились продукты), вспомнил, какими колючими были при расставании щеки отца, как мать угнали в Германию и, оставшись один, чтоб не протянуть от голода ноги, воровал у немецких коней овес, выкапывал подмерзшую брюкву… В свою очередь Лосев поведал о своих занятиях спортом, приходе в манеж, овладении искусством полета под куполом на трапеции…
Покидать Камышин артистам пришлось в спешке: горсовет расторг договор на аренду здания, которое решили ремонтировать, дабы оно вновь стало приютом участников художественной самодеятельности. Ржевский попытался продлить договор, но напоминание, что «искусство облагораживает человека, делает его лучше, помогает забыть о горе», ни к чему не привело, и администратор дал указание паковать реквизит, освобождать общежитие.
На пристань Лосев явился позже других, заставив артистов поволноваться.
— Нужен еще один билет, точнее полбилета, детский, — сказал Юрий Николаевич администратору, и Ржевский увидел рядом с артистом мальчишку.
— Напрасно берете на себя огромную ответственность, — зашептал администратор. — Можете нажить неприятности, стоит властям узнать о похищении ребенка, привлекут за противоправные действия не только вас, пострадает вся труппа. Лично я не попадал в тюрьму, Бог миловал, и не горю желанием на склоне лет…
Лосев не дал договорить, протянул акт горздравотдела и народного образования, где говорилось, что гражданин Яшин В. И. двенадцати лет усыновляется гражданином Лосевым Ю. Н.
…Инспектор манежа с трудом удерживался на ставших ватными ногах. Старался не упасть, чтобы не опозориться перед зрителями. Зажмурился, пытаясь победить головокружение. До боли сжал пальцы рук. «Стоять! Чего бы это ни стоило стоять. »
Пауза затягивалась. По партеру, амфитеатру пробежал шумок, заскрипели кресла.
Старая, растревоженная сменой погоды рана, а с ней контузия давили на затылок, плечи. Лосев с трудом размежил веки. И первое, что увидел, был маленький мальчик в первом ряду. Утонув в кресле, в ожидании невиданного зрелища малыш, не отрываясь, смотрел на человека во фраке в центре перекрещивающихся лучей прожекторов.
«Занимает служебное место, значит, привели по контрамарке… Когда-то там сидел Витя, готовил домашние задания и приходил в цирк… Все прочили сыну артистическую карьеру — поступление в наше училище, подготовку классного номера, включение в программу…»
Круги перед глазами постепенно таяли. Зрительный зал переставал кружиться. В ноги возвращалась сила.
— Добрый день! Начинаем представление. Первым номером программы… — гулким эхом отдаваясь в проходах, разнесся по цирку хорошо поставленный голос инспектора манежа.
Братья Федотовы
Они не были братьями и даже дальними родственниками, тем более однофамильцами — один носил фамилию Збандуто, другой — Сидоров. Общую фамилию им придумали в главке, когда авторитетная комиссия принимала и тарифицировала номер.
Кто-то из комиссии спросил после просмотра:
— А как их объявлять? Нужен один на двоих звучный, короткий, легко запоминающийся псевдоним, понятно, чисто русский.
— Пусть работают под типично русской фамилией, например братья Федотовы.
Вопрос был решен, Збандуто и Сидоров стали Федотовыми, и еще братьями, что не понравилось Сашке Збандуто: не признаваясь никому, он мечтал прославить свой род. Дима Сидоров попытался остудить закипающего друга, но Сашка отмахнулся, пригрозил, что если станет лезть с нравоучениями, не поддержит во флик-фляке [4] .
— И загремишь всеми костями, получишь инвалидность, а я возьму в номер нового партнера, и номер станет зваться «Братья Збандуто».
Сашка на себя наговаривал, на него можно было смело во всем положиться: во время выступления сам сломает себе шею или руку, но не даст покалечиться партнеру.
Обиду Збандуто хранил долго. Когда стали выступать — сначала на периферии, затем в столицах республик, в газетах появились рецензии на номер, вновь упал духом:
«Теперь не послать газету родителям: не поверят, что пишут про их родного сына, кому напророчили страшное будущее, вплоть до тюрьмы».
Отец с матерью в Урюпинске считали, что их Сашка-Александр скатился по наклонной дорожке, стал чуть ли не уголовником, кукует за колючей проволокой. Когда в редких письмах Збандуто рассказывал, что проходит учебу у лучших в прошлом, известных в стране и за рубежом акробатов, скоро станет артистом, родители не верили, считали, что сын бессовестным образом врет, если даже не арестован, то скрывается от правосудия. Так могло бы быть, не повстречай Збандуто Диму Сидорова.
Судьба столкнула будущих партнеров-акробатов хмурой ночью на окраине Волгограда, куда Збандуто приехал устраиваться на работу после службы в армии, а Дима трудился в ателье по ремонту телевизоров. В то позднее время Дима проводил смазливую пэтэушницу и не свернул, когда на пути встали двое в надвинутых по брови фуражках.
— Дай закурить! — потребовал тот, что был выше, другой добавил:
— Не чешись, гони сигареты!
— Не курю и вам не советую портить легкие, — ответил Дима.
— Тогда раскошеливайся на пол-литра! — сказал первый в безрукавке и с устрашающей наколкой на плече — тигр держал в когтях девушку.
— И пить вредно, особенно без закуски, — сказал Дима.
Имеющий наколку занес руку, но не успел опустить ее на Сидорова, как Дима перехватил, ловко вывернул, и парень взвыл от боли. Навстречу бросился приземистый Збандуто, но и он приземлился на асфальте, лег рядом со сбитым с ног дружком, на время отключился, когда пришел в себя, поднялся и стал пятиться от Сашки, отдавая должное его ловкости. Дружок тряс головой, не понимая, где он, что случилось.
Дима продолжил свой путь. Збандуто двинулся следом: «Откуда такой взялся? Впервые вижу. Не из нашего района, видать, приезжий. Вот бы научиться его приемчикам…»
Дима насвистывал, был спокоен, словно не он расшвырял грозу района Фигуру и его правую руку Збандуто. У кинотеатра обернулся:
— Хватит играть в сыщика. Подойди, коль не трусишь.
Збандуто вышел из-за угла, чтобы взять реванш за позорное поражение, но лишь размахнулся, как Дима ловко отпрянул. Сашка собрался повторить маневр, но Дима снова не оплошал, схватил нападающего за пояс, поднял, от чего Збандуто задергал ногами.
— Сорок с гаком весишь, — определил Дима и вернул Сашку на асфальт.
Збандуто выдохнул что-то несвязное, попытался стукнуть Диму головой в живот, но тот увернулся, отчего Сашка чуть не врезался в дерево.
— А ты упрямый, злость вполне спортивная, — похвалил Дима. — Чем у прохожих карманы чистить, шел бы к нам в секцию.
— Это куда? — не понял Збандуто.
— В спортклуб. Приходи в пятницу к шести.
Остающиеся до назначенного срока дни Збандуто перепродавал у кинотеатра билеты. В пятницу переступил порог зала, где тренировались на турнике, спортивных снарядах ровесники, среди них Дима, который отрабатывал «мостик». Дима подмигнул Сашке, послал в раздевалку надеть спортивную форму. В тот день Збандуто занимался до седьмого пота. Новый знакомый учил становиться на голову, крутить «колесо», поднимал на вытянутых руках. После тренировки пригласил к себе в рабочее общежитие, где на стенах висели грамоты, вымпелы, медали, полученные на различных соревнованиях.
— Не надоело черт знает чем заниматься: «подвиги» приведут в тюрьму, завязывай с криминалом, — посоветовал Дима и отвел Збандуто на завод. Не имеющего профессии оформили учеником, потом подручным. Со временем новый рабочий получил вкус к слесарному делу и с нетерпением ожидал занятий в секции.
Однажды, когда шла шлифовка кульбита, к парням подошел импозантный человек, представился режиссером цирка, предложил сменить профессию:
— После доработки, шлифовки может получиться классный номер, украшение программы.
Началась работа по утрам в манеже, вечерами номер показывали на концертах в клубах, дворцах культуры. Юношей аттестовали, приняли в штат цирка, отправили в первые гастроли. О будущем, когда сдадут мышцы, мускулы, неизбежная старость и придется уйти из циркового искусства, «братья» не думали. Цирк с его огнями, музыкой, овациями публики захлестнул. Сашка с Димой уже не представляли себе иную жизнь. Казалось, в блистательном мире риска, храбрости, ловкости они живут давным-давно. А то, что рядом с волшебством уживается невидимая посторонним адская шлифовка каждого трюка, было даже интересно. «Братья Федотовы» полюбили утренний класс-разминку, когда укрепляли лонжу [5] , выдавали «арабское колесо» в таком бешеном темпе, что у товарищей за манежем рябило в глазах…
…Дима разминался — подпрыгивал, массировал икры ног, то же стал делать Сашка.
— У Люськи снова глаза на мокром месте, — пожаловался Дима.
Збандуто мрачно изрек:
— Давно пора набить Али морду, чтобы не мучил жену ревностью.
Дима хотел предложить иной способ утихомирить ревнивца, поговорить с ним по-мужски, потребовать не играть на нервах у жены перед работой, но не успел: за форгангом раздался хорошо поставленный голос инспектора манежа, объявлявший выступление парных акробатов.
— Пошли! — приказал Дима.
Бархатный занавес пополз в стороны. Оркестр заиграл русскую плясовую, и «Братья Федотовы» выбежали навстречу ослепительным лучам прожекторов.
Виталий Малышев
Стоило акробатам отработать финальную композицию, раскланяться, отступить к форгангу, как в манеж, срывая на ходу с головы клетчатую фуражку с громадным козырьком, выбежал коверный.
— А вот и я, всем здрасьте! — выкрикнул Виталий Сергеевич и стал работать антре [6] , старое, «с бородой» классическое, во все времена отлично принимаемое публикой, вызывающее дружный смех и тот настрой, с каким артистам легче работать.
Первый выход длился три минуты — клоун веселил публику, пока униформисты готовили манеж для следующего номера. За считанные минуты Малышев показывал погоню за инспектором, ставил подножку униформисту, выдавал струи «слез», жонглировал фуражкой и башмаками и, ставя точку в антре, терял штаны, вдевал ноги в одну штанину, бегал за гусем, который уносил в клюве фуражку.
— Классно работает, любо-дорого смотреть! — восторгались артисты. — Одно слово — мастер высшей пробы, дважды заслуженный!
Первое почетное звание клоун получил на свое пятидесятилетие, второе, к неописуемому удивлению, свалилось как снег на голову во время гастролей в столице автономной республики. На одно представление в директорской ложе появилось весьма важное лицо: глава местного правительства с заместителями. Гастроли приурочивались к годовщине вхождения республики в Россию, представление так понравилось гостям, что на следующий день первый человек предложил удостоить клоуна почетным званием:
— Смеялся так, как никогда прежде, это большой мастер, замечательный артист. Все мы получили громадное удовольствие. Пусть носит звание нашей республики, что укрепит ее авторитет.
Сказано — сделано, Малышев получил второе звание на радость друзьям, назло завистникам, которых с избытком в любом творческом коллективе. Главным завистником оказался дрессировщик группы экзотических животных, чьи страусы, павлины, пеликаны работали из рук вон скверно, часто выходили из повиновения во время выступления — вытворяли в манеже что им вздумается; приходилось исключать номер из программы, ставить его на репетиционный период, к концу которого упрямые страусы, пеликаны, павлины работали не лучше. Тем не менее дрессировщик не забывал в каждом новом городе рассылать приглашения в цирк влиятельным личностям. Начальники разных рангов вместо себя, как правило, посылали на представление родственников или секретаршу, которые на следующий день больше хвалили экзотических животных, нежели артиста. Дрессировщик взял за правило приглашать в ресторан журналистов, щедро угощал, и газетчики расплачивались рецензиями, превозносили талант повелителя птиц, зверей из африканских и азиатских стран. Когда статей собралось достаточно, дрессировщик отнес их в главк начальнику, и тот сдался, представил артиста к званию…
Как первое, так и второе звание Малышев отметил в служебном буфете. Выпито и наговорено было достаточно много. Разошлись поздно и утром явились на репетицию вялыми, сонными, директор принял соломоново решение — закрыл глаза на нарушение режима.
Малышев работал все первое отделение, заполняя паузы. Вначале давал антре, затем репризы, показывал буффонаду. В совершенстве владея комедийной техникой, гротесковым гримом, используя различные аксессуары — громадную булавку, стреляющий конфетти башмак, извергающий струю воды фотоаппарат, работал с полной отдачей.
Приезжая в новый в цирковом конвейере город, просил администратора поселять его рядом с Будушевской.
— Вам номер на двоих? — уточнял администратор, но в ответ слышал:
Ни Ирина Казимировна, ни Виталий Сергеевич не делали тайны из своей дружбы, не обращая внимания на смешки за спиной: некоторых артистов удивляло ухаживание клоуна за «собачницей». Со стороны два немолодых человека выглядели трогательно и чуть-чуть смешно, особенно, когда при посторонних называли друг друга Ирочкой и Виталиком.
— Чего, спрашивается, тянут волынку? — удивлялись вокруг. — Давно бы поженились и дело с концом. Свадьбу бы им закатили такую, что цирк закачался, а они ведут себя, как дети, которые боятся мамы.
Чтобы прекратить разговоры о старых артистах, руководитель номера жонглеров на свободной проволоке Илияс Мамедович Арзуманов переводил разговор на другую тему, например, сердился, что никто не контролирует работу городских касс:
— Иду мимо сквера, где одна из касс цирка, а в окошке листок «Буду через 20 минут». Для интереса стал ждать, спустя полчаса терпение иссякло и ушел. А потом жалуемся, что люди охладели к нашему искусству!
Арзуманов, знакомый с Будушевской и Малышевым еще с довоенных лет, был в курсе их отношений, уважал бывшую акробатку и клоуна.
Они встретились будучи молодыми, полными сил, желания удивить мастерством мир. Как все дебютанты, пугались зрителей, пьянели от бродивших за кулисами стойких запахов конюшни. Стесняющийся высказать свои чувства, Малышев робко оказывал внимание элегантной, безукоризненно сложенной акробатке, та принимала все как само собой разумеющееся, привыкнув быть в центре внимания, иметь поклонников. Ухаживал Малышев довольно странно, не признавался в любви (впрочем, Будушевская знала это без слов), не водил в ресторан, не засыпал цветами, но в отличие от других влюбленных делал куда более важное. Клоун придумал репризу, в результате которой воздушная гимнастка получала необходимый короткий отдых после головокружительных трюков под куполом, лез по веревочной лестнице, путался ногами, повисал вниз головой, что приводило в восторг зрителей.
Так прошли лето, осень, и Малышев наконец-то набрался храбрости, чтобы сделать предложение, но неожиданно для всех актриса без памяти влюбилась в вальяжного куплетиста областной филармонии. Куплетист был неотразим, не ходил, а нес себя, разбивал сердца обожающих его особ женского пола, не говорил, а вещал, поучал, расточал комплименты, имея на то все основания, хвастался, что ему раз плюнуть перевести в ранг любовницы любую девушку, не говоря о женщинах в годах. С Будушевской куплетист применил проверенную тактику: плел вокруг Ирины кружева, в конце ее выступления бросал ей букеты роскошных цветов, которые сам получал на концертах.
На скоропалительной свадьбе — по цирковой традиции ее провели после представления в манеже — Малышев впервые в своей жизни напился. Клоуна отнесли в гостиницу, раздели, уложили. В себя Малышев приходил почти сутки и поэтому с опозданием узнал, что Ирина уволилась (по настоянию мужа), чтобы готовить новый номер, который станет оттачивать на сцене в концертной программе.
Встретились они спустя два года, уже во время войны, когда отдел комплектования Комиссариата искусств включил Будушевскую и Малышева в одну фронтовую бригаду.
— Безмерно рада нашей встрече! — не наигранно заявила актриса. — Не забывала, как помогал в манеже, давал дельные советы. Станем работать вместе, как когда-то. Хочешь спросить, как стану выступать без трапеции? О ней придется забыть, стану показывать довольно зрелищный акробатический этюд.
— Имеешь в виду мужа? Он погиб, к сожалению, погиб на второй месяц войны, — печально сказала Будушевская. — Посмертно наградили орденом.
— Никогда бы не подумал, что твой избранник может взять в руки оружие, тем более воевать, считал его, прости, обычным хлыщом.
Будушевская невесело улыбнулась:
— Мы говорим о разных людях. Ты имеешь в виду артиста филармонии, а я полкового комиссара. Чтец, он же конферансье и куплетист, остался в прошлом, мы расстались довольно быстро, без скандалов. А с комиссаром расписалась в мае сорок первого, познакомились в его гарнизоне, где давали шефский концерт…
Почти год клоун и гимнастка выступали на передовой в перерывах между боями на открытой площадке, в кузове грузовика с откинутыми бортами, в сохранившемся клубе или лазаретах. Для Малышева тот год был самым счастливым, если можно таковым стать на фронте, рядом со страшной войной, постоянными артналетами.
Однажды в трескучий мороз Будушевская слегла с воспалением легких, больную срочно отправили на санитарном самолете в тыл. Спустя месяц до Малышева дошла весть, что актриса, к счастью, выздоровела и работает в Свердловском цирке и, что самое главное, в третий раз вышла замуж.
Не в силах оставаться в одиночестве, клоун в опустевшей столовой военторга залпом выпил стакан разбавленного водой медицинского спирта и уставился ничего не видящим взглядом в тарелку с соленым огурцом. Таким «незрячим» Малышева отыскал Арзуманов. Виталий Сергеевич поднял на товарища помутневшие глаза:
— Выпьем! Армянского коньяка, к сожалению, нет.
Арзуманов взял бутылку, натренированным жестом манипулятора спрятал неизвестно где, поднял клоуна, привел в снимаемую квартиру, где с женой — она же ассистентка, — и двумя дочерьми-погодками занимал комнату.
— Имею право выпить или нет? — вопрошал Малышев заплетающимся языком. — Другим прощают выступления под градусом, а мне непозволительно разок хлебнуть горячительное?
Фокусник с женой раздели клоуна, уложили на узкий диван.
— Ты забыл, что завтра очередной концерт в госпитале, пьяному или не протрезвившемуся с больной головой на концерте нечего делать, — наставлял Арзуманов. — Не желаю, чтобы моего друга увидели в образе свиньи. Спи, не думай, что мои девочки останутся без места — возьмем их к себе в кровать. Пожалуйста, не ворочайся, иначе заскрипят пружины и дочери не выспятся.
Трудно оказать, как бы впредь выступал клоун, наверное, вымученно, как приготовишка, насильно вытолкнутый в манеж, все бы удивлялись, куда подевалось отточенное мастерство, где брызжущий через край юмор, импровизация?
Утром, умывшись, выпив пару чашек желудевого кофе (где в войну было найти натуральный?), Малышев пришел в выглядевший не праздничным цирк. Напялил парик, облачился в широкие штаны, туфли с удлиненными носами и вышел в манеж. «Сейчас или никогда!» — приказал себе Малышев, чувствуя, как в теле напряглась каждая клетка.
В ранний час в цирке шла очередная, плановая репетиция. Не горели софиты. У барьера крутили «колесо» две девушки. Поодаль разминались эквилибристы [7] , им ассистировал отец, бывший руководитель номера «Икарийские игры» [8] . За форгангом лаяли собачки, протяжно кричал осел, били копытами кони, в клетках урчали медведи.
Те артисты, кому не хватило в манеже места, не пришло время репетиции, сидели в первом ряду, массировали икры ног, переговаривались.
— Извините, Виктор Сергеевич, — робко сказал инспектор манежа, увидя переодевшегося клоуна, — но вас нет в расписании репетиций.
Про себя инспектор подумал: «Если непревзойденный Малышев желает шлифовать свои номера, то сколько же часов ежедневно надо репетировать молодежи. »
— Маэстро, дайте верхнее ля! — попросил клоун скучающего в оркестровой ложе трубача и, когда труба пропела, добавил: — Премного благодарю!
Малышев сделал кульбит, задний «бланш», затем «флажок» на одной руке, прошелся колесом и с возгласом «ап!» встал на ноги.
Вокруг манежа прокатился восторженный вздох.
Не позволяя себе остынуть, оставляя товарищей в ожидании небывалого, настраиваясь на необходимую волну, Виталий Сергеевич стал показывать работу, которую в цирках всех стран называют экстраклассом.
И артисты за манежем, кто не напрасно ест свой нелегкий хлеб, подались вперед.
Парик у Малышева встал дыбом, из ушей полились струйки.
Окружившие манеж дружно и искренне захлопали, кричали «браво».
Клоун в рыжем парике продолжал нанизывать на невидимый стержень гирлянду трюков буффонады с элементами акробатики. Казалось, Малышев импровизирует, ничего не приготовил заранее. И артисты дружно зааплодировали: чем же еще могли они наградить товарища? Ведь аплодисменты взыскательных, много умеющих, десятки лет работающих в цирке для их собрата по искусству дороже всего.
Лепя последние «крючки», Малышев неожиданно сник, замер, глаза потухли, и в цирке возникла тяжелая тишина, в которой слышался рык зверей. Никто не догадался, что просто-напросто Малышев вспомнил, что за барьером нет Ирины, дорогая женщина на Урале отмечает очередной замужество.
Сказка кончилась. В центре манежа, опустив плечи, стоял не бескорыстно и щедро даривший веселье клоун, а одинокий, обсыпанный опилками, в мешковатом одеянии, с рыжей шевелюрой грустный немолодой человек…
Минуло около семи лет, и Будушевская встретилась с Малышевым в столице кавказской автономной республики: актриса не догадывалась, что это произошло благодаря упорству клоуна — когда комплектовали программу, Виталий Сергеевич настоял включить в нее воздушную гимнастку Ирину Будушевскую.
— Она сменила жанр, — ответили клоуну, — давно не работает воздух и каучук [9] , подготовила номер дрессированных собачек.
— Запишите к нам, — упрямо повторил Малышев.
— Но в вашей программе уже есть животные — кони, львы.
— А собачек нет. Надо заботиться об утренниках: дети души не чают в собачках.
Во время встречи Виталий Сергеевич никак не мог справиться с дрожью в руках, голосе, первым бросился на вокзале к нужному вагону, протянул руку актрисе и постеснялся обнять.
За годы разлуки Ирина Казимировна, понятно, изменилась внешне, но для Малышева она оставалась прежней, какой была до войны. В гостинице Виталий Сергеевич прочел в глазах актрисы усталость, которую невозможно скрыть строгой диетой, косметическими ухищрениями, — перед клоуном сидела, чуть сутулясь, дама в годах, с морщинками под глазами, пополневшая в бедрах.
— Я очень постарела? — тихо спросила Будушевская.
Малышев затряс головой:
— Не лукавь, уж я-то знаю, что не похожа на прежнюю, безжалостные годы берут свое. Сколько не виделись? Целую вечность. — Ирина Казимировна с трудом сдерживала слезы — не забывала, что плакать значит рождать новые морщины.
О том, как жила, не рассказала, а Малышев не спрашивал, Будушевская проговорилась, когда явилось плохое настроение — причиной стала болезнь одной из солирующих в номере собачек, неповиновение других. Расстроенная актриса разрыдалась:
— Не можешь представить, какая я несчастная — второй такой нет на целом свете! Многие завидуют, что не теряю форму, полна сил, куража, без которого нельзя выходить в манеж, высокой ставке и не подозревают, как мучительно быть одной. У ровесниц давно выросли дети, появились внуки, имеется собственный дом, а у меня… — не договорив, Будушевская обвела потухшим взглядом тесную, давно требующую ремонта гардеробную.
«То, что сказала, могу о себе повторить я, — подумал клоун. — Кто виноват, что оба одиноки? Судьба-мачеха? — на ум пришла предерзкая мысль немедленно, не откладывая, выложить то, что хранится в душе, требует выхода: — Не будет ли смешно признаваться в непогасших чувствах в мои годы? Да и нужен ли я ей?»
И он промолчал. Когда актриса успокоилась, постарался отвлечь от грустного, предложил поправить макияж и рассказал довольно смешной анекдот.
С той поры дрессировщица собачек и клоун уже не расставались, для этого Малышеву приходилось идти на различные ухищрения, убеждать в главке, что номер Будушевской необходим лично ему по творческим соображениям.
— У меня два номера сорвутся, если не будет собачек Будушевской! На подходе еще одно антре с участием четвероногих Ирины Казимировны. Ко всему актриса помогает в дрессуре моего гуся, доводить до дела кота. Без актрисы мне не обновить репертуар, не буду расти творчески!
Малышев дошел до самого министра культуры, кто не раз в докладах, статьях о цирке хвалил клоуна, но лишь заикнулся о просьбе не разводить его с Будушевской по разным программам, как высокопоставленное лицо перебил:
— Дам указание оставить все как было. Ждал, что станете просить квартиру в столице, повышения ставки, выделения финансов на обновление аппаратуры, а вы обращаетесь с такой мелочью! Вы, лауреат нескольких цирковых фестивалей, истинно заслуженный артист, достойны большего, в том числе представления на народного Союза!
О последнем министр быстро забыл — шли годы, а Малышев оставался лишь заслуженным РСФСР и небольшой автономной республики на Кавказе.
Неоценимую помощь в улучшении номеров, дрессуре комнатных животных оказывала не Будушевская клоуну, а Мальцев ей. Виталий Сергеевич придумал забавный выезд собачек, где одна была наряжена в имитирующий лошадку костюм: мини-коня запрягали в повозку, сажали на нее гуся. Появление в манеже подобной колесницы встречалось громом аплодисментов. Сделав круг, «лошадка» теряла одеяние, что рождало общий смех. Когда какая-либо из собачек пребывала в плохом настроении, Малышев настраивал вышедшую из повиновения на работу, иногда заменял Будушевскую на репетиции, сам добивался от шпица, болонки, той-терьера, таксы или пуделя точного исполнения трюков. А однажды во время выступления Будушевской незапланированно вышел в манеж, подскочил к гусаку:
— Уступи место! Хочу тоже покататься!
Гусь зашипел, «лошадка» задвигала лапами, потянула тележку, и клоун, к неописуемому удовольствию зрителей, растянулся на манеже, утопил лицо в опилки. Тут же вскочил, попытался догнать выезд, вновь упал и уже на четвереньках заспешил за гогочущим гусем и увозящей его собачкой.
— Не мешай, пожалуйста, работать, — попросила за форгангом Будушевская. — С твоим появлением публика забывает о моем номере, полностью переключается на тебя. И еще: не подглядывай за мной во время работы, знаю, что готов прийти на помощь в нужную минуту, но я смущаюсь, как это ни покажется странным.
Сама актриса любила смотреть выступления Мальцева, особенно антре. Мальцев, кажется, умел все-все, был непревзойденным в любых разновидностях клоунады, эксцентрики, владел игрой на гармошке, балалайке, ложках, скрипке, дудке, свистульках, жонглировал тремя, а то и четырьмя предметами, ходил по канату, показывал фокусы. Стоило Будушевской услышать в динамике на стене гардеробной знакомое «а вот и я, всем здрасьте!», как шла к форгангу и не отрываясь смотрела на выступление клоуна.
Людмила Гостюнина
Она уже не плакала — слезы высохли. Люся сидела на узком диванчике поджав ноги, подперев кулачком голову, и смотрела в стену с оставшейся от предыдущей программы афишей дрессированных коз: под какой фамилией выступал дрессировщик, было неизвестно — край афиши кто-то оборвал.
Из динамика лился исполняемый оркестром вальс, его сменил бравурный марш, заглушаемый аплодисментами: еще пара-тройка минут, и братья Федотовы завершат свой номер, уступят манеж клоуну. Пора было поправлять прическу, выходить в коридор, идти к форгангу, но воздушная гимнастка продолжала сидеть на продавленном диванчике.
«Ужасно, если тетя Ира слышала, как Али вновь ревновал, повышал на меня голос — наши гардеробные соседствуют, стена фанерная… Надо постараться не попасть тете Ире на глаза, иначе придется выслушать, какой изверг Али, какую я сделала ошибку, согласившись на брак с ним, как не умею поставить себя. Станет меня жалеть и одновременно ругать Али за дикость…»
Люся покосилась на дверь, которую с грохотом захлопнул муж, поспешивший к своим коням, чтобы с берейтором [10] проверить подпругу, крепление седла. Али прекрасно знал закон цирка: ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не нервировать артиста перед выходом в манеж, даже если этот артист собственная жена.
«Как отучить от беспочвенной ревности? Круглые сутки рядом с ним, у него на глазах, а считает, будто кручу хвостом, ищу приключений. Отчего, собранный в манеже, позже распускает себя, не сдерживается? Почему не бережет ни мои, ни свои нервы, силы? Говорят, если ревнует, значит любит, но так могут думать лишь те, кому не устраивали ужасных сцен… За год замужества успела достаточно изучить его характер, но все равно удивляюсь его необузданности, темпераменту… Сейчас, как было уже не раз, закипел. Попробовала отшутиться, а он: «Не выкручивайся, не уходи от ответа! Я видел, как улыбалась ему, заигрывала, кокетничала! Не позволю, чтобы мою жену считали вертихвосткой, забывшей о гордости, чести!». Хотела перевести разговор на не опасную для меня тему, но Али не унимался: «Это в тебе говорят материнская кровь, гены неверности, приобретенные от драгоценной мамочки!». Не было сил отшучиваться, тем более оправдываться. Взмолилась не раздувать скандал, который слышен за стеной, напомнила, что скоро мой выход, но уговоры ни к чему не привели — он не желал ничего слушать…»
Люся перевела взгляд на пол с черепками чашки, которую Али в сердцах грохнул.
«Верно советует тетя Ира, пора дать понять мужу, что я не девчонка, на которую позволено повышать голос, мучить беспочвенной ревностью к каждому столбу. В нем бурлит кавказская кровь и чуть что сразу поднимается на дыбы, как его Абрек. Веду себя паинькой, а он…»
Люсю била мелкая дрожь, виноват был не сквозняк, проникающий в щель под дверью; чтобы согреться, гимнастка закуталась в махровый халат.
«Что он сказал про маму, какими посмел назвать словами? Вновь вспомнил гуляющие не первый год среди цирковых сплетни. Необходимо рассказать причину отъезда мамы, развода родителей… Не забуду, как маленькой играла возле сундука с реквизитом, а мама перешивала с Будушевской какую-то одежду. Забыли о моем присутствии и обсуждали папу, его характер, поведение.
Я баюкала куклу, слушая в пол-уха, ничего не понимала. Мама призналась, что твердо решила уехать: «Среди вас я чужая, как та кошка, которая по ошибке забрела в соседское окно погреться». Тетя Ира отмахнулась: «Не мели чепухи! Куда уедешь, у тебя ребенок». Мама покачала головой: «Из-за Люси и уеду, дочери будет лучше с отцом в вашем мире. Всем, в первую очередь мужу, давно ясно, что актрисы из меня не получится, артисткой надо родиться, а я пугаюсь высоты, зверей, публики. Муж перепробовал со мной чуть ли не все цирковые жанры, замучил репетициями и понял, что все напрасно, рано или поздно возненавидит меня за бездарность, поэтому покидаю его и Люсю, она дитя цирка, со временем отец сделает из нее актрису, со временем поймет меня, не осудит». Тетя Ира спросила, чем мама собирается заняться, и мама напомнила, что имеет образование финансиста; честнее быть рядовым плановиком, бухгалтером, счетоводом, нежели вымаливать у зрителей жидкие аплодисменты, знать, что не способна на чудо. Что касается дочери, то она пока неосознанно чувствует отсутствие у родителей лада. «Люся родилась, как говорится, в опилках и должна остаться с отцом, который ей нужен больше матери»…
В динамике раздался голос помощника инспектора манежа:
— Гостюнина, приготовься к выходу!
Люся прижалась подбородком к коленям и, словно наяву, увидела, как много лет назад прыгала на одной ноге вокруг плачущей мамы.
«Она поступила правильно, все сделала во имя моего будущего. Напрасно многие, в их числе тетя Ира, осуждают ее, жалеют меня. Во время переходного возраста я вела себя, как звереныш, огрызалась даже на ласку, лишь потом поняла, что мама поступила верно, здраво, во имя моего счастья, будущего, что папе трудно жить под одной крышей с чуждым цирку человеком, рано или поздно он ушел бы от нее, так пусть уйдет она… Много лет спустя, когда училась в цирковом училище и мама навестила, хотелось спросить, отчего не выходит вторично замуж, но промолчала. Мы долго говорили, с трудом простились, мама попросила поздравить папу с награждением на Всемирном фестивале цирков медалью, пожелала ему крепкого здоровья. И я обратила внимание на мамины глаза — прежде они были иными, мама никудышняя артистка, не могла сыграть безразличие к папе, все годы продолжала любить его, радоваться его успехам. Если папа гастролирует на Волге, берет отпуск за свой счет, ездит в нужный город, покупает билет на галерку и смотрит папину работу…»
В дверь постучали.
— Иду! — Люся сбросила халат.
«Кто и зачем пустил сплетню, что мама бросила семью из-за мотогонщика? Несусветная ложь больно ударила папу, он надолго ушел в себя, стал нелюдимым, и Али тоже поверил лжи, будто любезничаю, соблазняю чужих мужчин! В чем-то виновата я сама: зачем, спрашивается, улыбалась этому полковнику, тем самым разожгла у Али ревность? Все считают его настоящим Отелло, несдержанным, несносным, и никто не догадывается, что он лучше других…»
Люся вышла в коридор, где униформисты таскали тумбы для второго отделения «Белые медведи». Где-то лаяли собачки, ржали кони, одного из арабских скакунов вел под уздцы Али. Увидев жену, пожелал ни пуха.
— К черту! — Люся почувствовала возвращение необходимого спокойствия, настроя на работу, желания удивить если не весь мир, по крайней мере, публику в цирке. Забылась безобразная сцена ревности Али, появилась уверенность в себе, собственных силах.
«Напрасно обижалась на Али, прекрасно знаю о его взрывном характере, не стоило давать даже малейшего повода к ревности…»
Вспомнила, как отправляла маме телеграмму о смерти отца. Стояла поздняя осень, на город осел туман, погода была нелетной, но мама на перекладных успела к похоронам. Встала возле гроба, обняла дочь, и та уткнулась в материнскую подмышку, как делала в детстве, когда в школе обижали мальчишки, разбивала коленку. После поминального ужина мать изъявила желание увидеть выступление дочери. В цирке были два выходных и пришлось выступить в пустом зале для единственного зрителя. Как ни было тяжело, переоделась, вышла в манеж, поднялась на трапецию и продемонстрировала все, чему научилась в училище и, главное, чему обучил отец. На прощание услышала: «Могу спокойно уехать, вижу, что стала настоящей артисткой…»
За форгангом Малышев завершал свое антре, срывая шквал аплодисментов.
— Доброе утро, — сказала за спиной Будушевская.
Люся сжалась, ожидая со страхом, что тетя Ирина обрушит поток нравоучений, станет ругать Али, но Ирина Казимировна заговорила о мастерстве Виталия Сергеевича, о необходимости поддерживать форму, соблюдать строгую диету, намечающихся зарубежных гастролях, повышении ставок.
— Не забывай улыбаться при любых обстоятельствах, даже когда растянешь мышцу, заболит сухожилие — публике нельзя узнавать, что получила травму.
Желая сменить тему, заговорила о статической акробатике, которую придется работать в тридцать лет, посоветовала подумать о партнерной акробатике.
Люся послушно со всем соглашалась, радовалась, что не ругают, и сообщила новость:
— Слышала, что Тамаров со своими ребятами в Туле сдал комиссии пару чемпионских трюков, которые до него никто не работал.
— Это какой Тамаров? — уточнила Будушевская, продолжая в щель на форганге наблюдать за выступлением клоуна. — Уж не сын ли Риты и Глеба, двойное сальто на ходулях?
— Он самый! — скороговоркой, опасаясь, что не успеет досказать, заторопилась Люся: — Можно вечером зайти к вам? Али получил сушеный инжир — пальчики оближешь, и отличное вино.
— Гостюнина, живо! — приказали за спиной, но Люся не шелохнулась, ожидая ответа Будушевской.
— Приходите, но только без вина — знаете, поди, что я ничего не пью, — согласилась актриса.
Люся чмокнула Будушевскую в щеку и бросилась в распахнувшийся форганг, в коридор выстроившихся униформистов. Грациозно раскланялась, подбежала к веревочной, ведущей под купол к трапеции лесенке. Перебирала ногами и думала:
«Скорее бы приезжала мама, не виделись со дня моей свадьбы. И тетя Ира будет рада встретиться — старые подруги всплакнут, как когда-то в гардеробной, когда я играла с куклой, а мама с горечью призналась, что вынуждена покинуть мужа, оставить с ним меня…»
Он приказал себе встать, но стоило спустить с дивана на пол ноги, как острая боль пронзила тело.
— Лежите! — перепугалась Алла. — Врач прописал полный покой, иначе отправит в больницу! С радикулитом, тем более застарелым, хроническим не шутят! — девушка поправила на руководителе номера плед.
— Я должен идти! — уже вслух повторил Илиас Ма-медович, но на помощь Алле пришел третий в их группе, Борис:
— Отработаем без вас. Для детей на утреннике сойдут сокращенные трюки.
— Не говори так! — рассердился Карим-заде. — Для настоящего артиста безразлично, кто перед ним — дети или взрослые, и на утренних представлениях обязан работать в полную силу!
— Вы не так поняли, — залепетала Алла, погрозив партнеру кулачком — дескать, лучше бы молчал, чем пороть глупость.
— Я хотел… — неловко стал оправдываться Борис, который отличался молчаливостью, порой было трудно выжать из него пару слов.
«Мне не сделать и шага, тем более не отработать все трюки, в том числе танец с блюдом на голове», — пришел к грустному выводу Карим-заде и обратился к Алле:
— Поработайте двое. Во время сидения на проволоке сильнее раскачивайся, будто на качелях. А Борис пусть подольше держит тебя на плечах — хронометраж должен сохраниться. Слушайте оркестр. Не спешите: знаете, когда надо спешить? Верно — при ловле блох…
Алла закивала, а Борис заскучал — разговор начал утомлять, для Бориса было легче трижды за день выходить в манеж, нежели слушать всякие советы, пусть даже из уст руководителя.
Алла не переставала удивляться спокойствию, безразличию партнера чуть ли не ко всему:
«Нет у Борьки нервов, с него все как с гуся вода! Вот была бы потеха, если поженились: он — молчун, а я болтушка — еще та пара, хорошо, что не спорола глупость, когда засмотрелась на его бицепсы, рост, белозубую улыбку».
Карим-заде лежал не шевелясь, смотрел на молодых партнеров и продолжал нравоучение:
— Работайте, как работали со мной, забудьте, что я отсутствую. Станете сыпать трюки… — Илиас Мамедович не договорил, — перебила Алла:
— Не беспокойтесь, не будем сыпать! Все пройдет о’кей. Стыдно за нас не будет.
— Станете сыпаться, — руководитель номера строго нахмурил сросшиеся на переносице брови, — тотчас повторить трюк.
— Знаем, — Алла надула губы. Борис продолжал с ничего не выражающим взглядом смотреть куда-то в пространство, когда же Илиас Мамедович отвернулся от учеников, первым вышел в коридор.
Травму — не первую в жизни — Карим-заде получил на очередной репетиции, когда повторял сальто-мортале. Скомандовал «ап!», перевернулся через голову и не коснулся каната — ноги онемели. Свалился на ковер, не сразу почувствовав сильную, резкую боль.
«Хорошо, что работаем в нескольких метрах от манежа, иначе не собрал бы костей…»
С помощью подоспевших партнеров поднялся, самостоятельно дошагал до гардеробной и упал на диван, до крови закусив губу. Выругался, не опасаясь, что его услышат — ругательство было на азербайджанском языке. Когда врач прописал постельный режим и предупредил, что если посмеет встать, то отправит в больницу, первыми опечалились Алла с Борисом. Девушка решила, что на время излечения руководителя их номер выбросят из программы — прощай выработка и переработка выступлений и, значит, повышение зарплаты, изволь получать гроши за вынужденный простой. Борис опечалился, что без любимой работы заскучает, захочет взбодриться водкой, что чревато серьезными последствиями — выговором, даже изгнанием из циркового мира.
Приговор врача Карим-заде встретил спокойно, принимал лекарства, проводил процедуры, что касается номера, то потребовал от директора оставить его, обещал, что партнеры не подведут, отработают без руководителя.
Оставшись в одиночестве, остановился взглядом на отживших свой век, давно требующих замены столике и кресле.
«Все дряхло, как и я, но продолжают служить людям, не желают уходить в утиль…»
Прекрасно знал, что рано или поздно явится неизбежная старость, с нею всякие возрастные болезни, придется бросить работу, которой посвятил всю жизнь.
«Зрители не догадываются, что я давно на пенсии, а партнеры и другие в цирке, что хронически болен, лекарства не помогают…» Что будет делать, оказавшись за порогом цирка, старался не думать.
«Ничего не умею, кроме хождения по канату и свободной проволоке, жонгляжа, акробатики на горизонтальном или наклонном тросе, эквилибристики… Дед был хлебопашцем, отец разводил породистых коней, я же могу лишь радовать публику…»
В цирк попал босоногим мальчишкой — на базаре танцевал на канате с другими бродячими канатоходцами, и продолжал бы колесить по Кавказу до старости, если бы не московские артисты, прибывшие с шефским концертом на пограничную заставу: узнав, что Илиас круглый сирота, забрали с собой, устроили в интернат при цирковом училище.
«Неверно, что ничего, кроме работы на канате, не умею! Могу передавать опыт молодым, готовить смену… Ветераны утверждают, что покидать манеж надо за день до того, как ноги, руки станут непослушными…»
За дверью послышался шквал аплодисментов, следом хохот: непревзойденный мастер гротеска, буффонады Малышев играл очередной скетч — лез к Люсе Гостюниной по веревочной лесенке, срывался, дрыгал ногами. Еще пара минут — и униформисты установят стойки и между ними проволочный канат, оркестр грянет «Шехеразаду», из-за форганга выбегут Алла с Борисом. И зрители не узнают, что нет главного, на ком держится номер, кто придумал все трюки, подготовил молодых партнеров и остался в гардеробной на диване, с непроходящей в пояснице болью. Пусть публика восторгается ловкостью Аллы и Бориса и не догадывается, что любое неверное движение приводит к падению, переломам, вывихам, растяжению связок. На то он и цирк, чтобы быть праздником сегодня и ежедневно, как пишут в афишах. Пусть на утренних представлениях дети, на вечерних взрослые получают заряд бодрости, радости, становятся непосредственными в проявлении эмоций, видят красоту тела, подчиненного воле артиста — сегодня и ежедневно…
Илиас Мамедович обернулся и увидел на пороге девочку в коротком платьице.
— Заболели? Может, надо что-либо принести, кого-нибудь позвать? — незваная гостья сделала книксен: — Здравствуйте!
«Грация что надо, истинно артистичная, — отметил Карим-заде. — Чья такая?»
Девочка догадалась, какой вопрос возник у приболевшего.
— Забыли меня? А я вас вспомнила, и как Илиской дразнили за то, что не выговаривала букву «р», и как в Сочи учили плавать.
Илиас Мамедович забыл о боли, привстал:
— Ты Карпова, Ира Карпова! Совсем стала большой! Садись — в ногах правды нет. Сколько стукнуло?
— Скоро восемь, — Ира присела в кресло. — Мы уехали из Тулы первыми, вначале в Псков, затем в Германию.
— Уже вошла в номер родителей?
— Я верхняя. Прислали для укрепления вашей программы. В дороге ела на ночь, а тут не буду — нельзя выходить в манеж с полным желудком, надо следить за весом.
Карим-заде кивнул и подумал, что нет ничего удивительного, что девочка с пяти лет выступает с родителями — такова участь всех в цирке детей, в дошкольные годы выходить в манеж и покидать его лишь после сильной травмы или ухода на раннюю пенсию.
— Ага, плохо только школы менять и подружек. Лишь привыкну к классу, учителям, как надо опять переезжать.
А еще приходится учить то, что выучила раньше, или, наоборот, догонять ушедших по программе…
Иринка привыкла к постоянной смене городов, сбору вещей, распаковке на новом месте, поселению в гостиницах или на съемной квартире, привыканию в новой школе к учителям, одноклассникам.
— Здесь школа далеко от цирка? В Иркутске ехала на трамвае три остановки, мама боялась отпускать одну и провожала, встречала…
— Ночью. Папа с мамой отсыпаются, а я не выдержала и прибежала сюда и встретила вас, знакомого.
«Ну и ну! — подумал Илиас Мамедович. — Удивительно быстро бежит время: вчера пускала пузыри, я таскал на руках, возил в коляске, а ныне равноправная в номере родителей».
Ириша покосилась на укрытые пледом ноги хозяина гардеробной:
— Я тоже в прошлом месяце ходила с температурой, а раньше упала на репетиции. Жуть, как было больно, даже плакать захотелось.
— Артисту нельзя плакать, — сказал Карим-заде.
— Знаю. Мама перепугалась, что сломала руку или ногу, потащили к доктору, а тот успокоил, сказал, что ничего страшного. Вы не бойтесь, выздоровеете.
— Я не боюсь, — улыбнулся Илиас Мамедович и напрягся, прислушался: в динамике зазвучала «Шехеразада».
— Ваши вышли? — поняла девочка. — Можно посмотрю?
Ириша выскользнула в коридор.
Оркестр играл восточную мелодию, ее заглушали аплодисменты. Словно наяву, Илиас Мамедович увидел, как по канату с зонтиком идет Алла, Борис жонглирует булавами.
Не было сомнений, что хорошо отрепетированный номер идет гладко, без зацепок.
«Не сыпят», — подумал старый артист, откинулся на подушку и вспомнил, что сальто-мортале в переводе с итальянского значит «смертельный прыжок».
Новость перед началом утреннего представления принесла Алла. Не успев отдышаться, затараторила, как заводная:
— Прибыл какой-то важный гость! Одет исключительно в импортное. Из-за него задержали утренник. Сейчас усаживается в директорской ложе, пьет «Ессентуки»!
— Кто такой? — хмуро спросил Али Бек.
— Очередная комиссия из главка? — предположил инспектор манежа.
— А вот и не угадали! — ответила Алла. — Была бы обычная комиссия, директор не ходил на цыпочках, заглядывая в рот. По всему, антрепренер, приехал отбирать номера для зарубежных гастролей!
Али Бек мрачно изрек:
— Отбирают в Москве.
— Спорю на что хотите, но это покупатель! — не сдавалась девушка. — Явился, не предупредив, чтобы мы не волновались в манеже, не пытались прыгнуть выше головы, хочет увидеть, как работаем обычно, не желая понравиться, вылезть из кожи.
— Зачем говоришь неправду? — обиделся Али. — Мы не халтурим на утренниках, не сокращаем номера, детям показываем все трюки. Для артиста все равно, кто в зале — маленькие или большие.
Алла продолжала тараторить:
— Посмотрит два отделения и закупит понравившиеся номера, так сказать, экстракласса, что поможет в Европе делать хорошие сборы. На Западе всегда все делается тайно — опасаются конкурентов.
Желания поспорить ни у Али, ни у Малышева не было. Артисты восприняли информацию спокойно, не зная, верить или нет молодой артистке. Дождавшись последнего звонка, когда цирк заполнили зрители, Али и клоун приникли к форгангу, стали смотреть на директорскую ложу, где появились директор, администратор и незнакомец. Малышев вспомнил, как директор минувшим вечером жаловался, что надо самому ехать на мясокомбинат, который срывает поставку костей для аттракциона белых медведей, за невыполнение договора хочет подать на комбинат в суд.
«Одет гость с иголочки. Лицо непроницаемо, — отметил Малышев. — Сидит, точно проглотил палку. Таких ничем не удивить, не рассмешить. Отчего пришел не вечером? Не желает терять день, спешит вернуться в столицу?»
То же самое подумал и Али Бек, надеясь, что его выступление, как и выступление жены, понравится зарубежному гостю.
Разговоры о некоем зарубежном концерне, собирающемся пригласить на лето в Швейцарию очередную советскую цирковую труппу, ходили давно, обрастали подробностями, было только неизвестно, когда ждать важных покупателей. И вот слух подтвердился, ему не верил лишь Али Бек.
«Мозги нам крутят с зарубежными гастролями, в чужие страны отбирают номера не на периферии. Вряд ли прибыли из-за жонглеров, акробатов, Европе подавай крупных животных, вроде белых медведей, которые обеспечивают аншлаг, все остальные жанры — добавка к звериному аттракциону… Если все так, зачем пришел на первое отделение? Мог переждать его в гостинице, ресторане и дождаться второго… Неужели ошибаюсь и гостю нужны отдельные номера. »
В спину Али горячо дышал Абрек. Ноздри иноходца шевелились. Конь кусал раздирающие губы удила и, точно посмеивался, показывал крупные зубы. Али работал с арабским скакуном четвертый сезон. Жеребца приобрели на конезаводе за баснословную цену, но конь того стоил. Вначале пугали необузданностью Абрека, его дикостью — пришлось пролить немало пота. Когда конь уяснил, что хозяину не занимать терпения и упрямства, сдался, стал послушным, мало того, стоило в конюшне появиться второму коню, помог объездить новичка. Абрек работал с удовольствием, лишь изредка показывал норов — взбрыкивал, поднимался на дыбы, громко ржал, но стоило почувствовать на крупе властную руку, становился смирным, виновато косился на Али, дескать, прости за шалость. После выступления Али не забывал угостить четвероногого партнера сахаром, поцеловать в мокрый нос, что обижало Люсю, ей казалось, что муж уделяет коню больше, нежели ей, времени, внимания, любит сильнее.
— При болезненной любви к коням тебе не стоило жениться, — говорила Люся. — С Абреком тебя водой не разольешь, верю, что во сне видишь его, а не меня. Странно, что спите раздельно — спал бы в конюшне, в стойле.
Али оправдывался, что конь требует дрессуры, жена нет, Абрека надо держать в форме, готовым к работе, иначе номер развалится. Привлекал к себе Люсю, крепко обнимал, жарко целовал, и жена таяла от ласки…
Они познакомились в Ярославле, когда Али на репетиционном периоде готовил обновление номера школы верховой езды. Люся с инженером по технике безопасности устанавливала трапецию. Али галантно помог девушке спуститься с веревочной лесенки, сказал, что они оба истинно цирковые — оба выросли в манеже.
— Вашу фамилию знаю по лекциям в училище, — польстила Люся.
Али не признался, что в паспорте он Аскер Алимов, псевдоним взят у известной перед войной конной группы, ушедшей воевать в кавалерию и погибшей под Волоколамском, имя и фамилию для афиши предложили в Союзцирке, когда принимали номер, где маленький наездник танцевал на крупе бегущего по кругу коня, прыгал на ходу через обруч… Один из членов комиссии вспомнил о погибших джигитах, заметил, что молодой артист должен возродить династию.
«Али Бек был непревзойден в своем деле, обязан не посрамить его имя, — думал Али. — Когда родится сын, унаследует известную в цирке фамилию, научу всему, что умею». О планах Люсе не рассказал: Люся не хотела беременеть и, значит, на какое-то время покидать манеж, планировала родить дочь, а не сына, как хотел Али, к тридцати годам, не раньше. Али не стал спорить, настаивать и согласился с доводами жены отложить рождение наследника на более позднее время, иначе так прекрасно начатая карьера воздушной гимнастки закончится крахом — придется делать перерыв в работе, возвращать тренировками утраченную ловкость, что довольно сложно, не всегда приводит к положительному результату, бывает, что после родов уже нельзя работать воздух…
Как и Люся, Али не пропускал ни одной репетиции, чтобы оттачивать трюки, разучивать с конем танец, хождение на задних ногах, брать барьеры, кланяться. Подмывало уговорить жену работать вместе, в мечтах видел, как Люся танцует на конском крупе, делает «флажок», «бланш» — из сольного выступления номер превращался в конный аттракцион, занимал целое отделение…
«Подожду, сейчас может обидеться, что смею предложить сменить жанр, тем самым предать семейную традицию…»
Али погладил Абрека, вскочил в седло и шепнул коню:
Ирина Будушевская
Ирина Казимировна не находила себе места — ходила по гардеробной, как зверь в клетке, поламывала пальцы рук, хмурилась.
«Пора прекратить это безобразие! Напишу в профком, дирекцию, наконец, в главк! Нельзя мой номер ставить после коней, они поднимают в манеже опилки с пылью, и мои подопечные задыхаются! К тому же давать подряд номера с животными — грубейшая ошибка!»
Чувствуя настроение хозяйки, собачка поджала хвост, снизу вверх смотрела на дрессировщицу, точно хотела вернуть хорошее настроение, которое необходимо для работы.
Сквозь неплотно закрытую дверь донеслась игра Малышева на пиле.
«Надо идти, сейчас начнет жонглировать тростью, шляпой и башмаком, нельзя пропустить, — решила Будушевская. — Один может заполнить целое отделение, умеет, кажется, все, годы его не берут, сохранил задор, который отличает настоящего артиста от случайного в искусстве. А я спасовала перед трудностями, не сумела преодолеть всякие соблазны, в первую очередь замужества, пожелала любить и самой быть любимой, за что жестоко наказана…»
Как все представительницы женской половины человечества, Будушевская завидовала молодости других актрис и искрящемуся таланту Малышева, его куражу, умению удивлять, смешить публику до колик. Однажды попросила клоуна поделиться секретами мастерства, и Малышев ответил, что, когда выходит в манеж, забывает, что работает три десятка лет, оставляет за форгангом все невзгоды, усталость, еще надо непременно любить публику, верить, что она твой лучший друг.
Ирина Казимировна поняла, что все это она знала, но не сумела стать артисткой малышевского ранга, растеряла в бытовых и сердечных неурядицах то ценное, чем обладала в молодости.
Первый шаг к отступлению совершила перед войной, когда скоропалительно вышла замуж. Куплетист областной филармонии купил обхождением, комплиментами, бросанием на манеж букетов, обещанием помочь сделать блестящую карьеру. И Ирина Казимировна сдалась, ушла из цирка, вошла в концертную бригаду. Муж исполнял злободневные, чуть пошленькие куплеты, вел конферанс, она работала с булавами, мячом, показывала акробатику. Клубы, дворцы культуры было не сравнить с очарованием манежа, пришлось смириться и с публикой, которая не всегда заполняла зрительный зал, в антракте оставалась в буфете, оркестр заменял аккомпаниатор, играющий на расстроенном пианино. Покидая под жидкие хлопки сцену, Будушевская с грустью вспоминала прежнюю жизнь в ослепительном цирке. Как-то напомнила мужу об обещании сделать ей новый аттракцион, в ответ услышала:
— Мудрец изрек, что лишь дураку всегда всего мало. Не принимай это на свой счет, но взгляни трезво на реальность: сейчас ставка у тебя намного выше цирковой, работа легче, не опасна для здоровья, зачем аттракцион?
— Hо мы работаем на износ, — попыталась поспорить Ирина. — Порой выступаем пять раз за день.
— Это дает деньги, весьма хорошие деньги. Аттракцион требует немалых финансовых вложений, заказа аппаратуры, реквизита и, главное, мохнатой руки начальства — без блата не было бы сестер Кох, братьев Дуровых, Кио, Карандаша и прочих корифеев твоего цирка.
Расстались довольно скоро без ссор, оскорблений. Ирина вернулась в манеж, но потерянное, такое дорогое для акробата время жестоко отомстило. Пришлось отказаться от ряда трюков, после падения с трапеции перейти на «каучук».
Второе замужество оказалось также скоропалительным, а супружеская жизнь крайне короткой. Новая любовь озарила, точно вспышка, сделала актрису незрячей, безвольной. Кадровый военный со шпалой в петлицах произвел неизгладимое впечатление выправкой, командным голосом, атлетическим телосложением. Познакомились в гарнизонном клубе, куда цирк привез шефский концерт. На банкете командир по-гусарски ухаживал за гимнасткой, не позволял другим офицерам приглашать на танец, увел гулять под луной, на рассвете сделал предложение, и Ирина, пребывая на седьмом небе, не раздумывая дала согласие. Известие, что Будушевская остается в военном городке с новым мужем, привело в неописуемый ужас артистов. Ирина не желала слушать ничьи уговоры, была счастлива, как никогда прежде. В полдень 22 июня 1941 года муж отправил жену на восток, предвидя, что немцы разбомбят станцию, железнодорожный мост. С дивизией отразил наступление врагов. Больше супруги не виделись, в сорок втором Будушевская получила похоронку, где скупо говорилось, что полковник погиб смертью храбрых, посмертно награжден вторым орденом. К тому времени актриса работала во фронтовой бригаде, показывала несложные акробатические этюды на полянках, в кузове грузовика с откинутыми бортами, в спортзалах школ. Бригадиром был Малышев, который обладал недюжинными организаторскими способностями, устраивал жилье, питание, переезды. О непогасшем чувстве Малышев не говорил, но Будушевская видела это без слов, сделай Виталий Сергеевич предложение, ответила бы согласием. Но, во-первых, клоун молчал, во-вторых, актриса простудилась, с сильной температурой отправили в тыл. Выздоровев, подумывала вернуться на фронт, но на пути встал художественней руководитель аттракциона лилипутов. Ирина вошла в коллектив, стала жить с худруком. От недолгого замужества остались смутные воспоминания, актриса дала зарок больше не выходить замуж. Вновь встретившись в мирное время с клоуном (к тому времени уже заслуженным артистом республики), принимала его внимание к себе как должное, удивлялась, что прошла целая вечность с их первой встречи, а Виталик продолжает любить.
«Он однолюб, чего не скажешь про меня. От рождения страшно стеснителен, что для артиста странно. Стесняется даже почетного звания, хвалебных статей в газетах, боится быть узнанным вне цирка и ходит, как человек в футляре, с поднятым воротником, в надвинутой на глаза шляпе… Он единственный, кто помогает мне не терять в себя веру».
С Малышевым она чувствовала себя защищенной от всех неурядиц, бытовых хлопот, пропадала зависть к молодым акробаткам, с клоуном было не скучно. Он знал удивительно много и умел тоже немало.
«До конца жизни не рискнет произнести нужных слов, останется молчуном, — понимала актриса. — Надо его подтолкнуть, еще лучше взять инициативу в собственные руки, самой отвести в ЗАГС». Она собралась попросить узаконить их отношения, иначе за спинами посмеиваются, но из Ялты пришла телеграмма Раскатова. Бывший разрыватель цепей, играющий гирями, сдвигающий с места автомобиль, а позже руководитель группы дрессированных хищников спешил обрадовать, что наконец-то получил развод, звал в жены. Телеграмма была громадная, на двух бланках.
«Чудак и еще ужасный растрата! — повеселела Будушевская. — Отдал чуть ли не всю месячную зарплату Министерству связи!»
Голова пошла кругом, забылись недошитое в ателье платье, отданные в долг несколько сотен рублей и, главное, человек, который с возгласом «А вот и я, здрасьте!» выходил в манеж. К Раскатову укатила тем же вечером. Следом полетела телеграмма со строгим выговором за срыв выступлений, но стоило начать работать в Ялте акробатический этюд, как, ценя былые заслуги артистки, выговор сняли, простили недисциплинированность.
К концу сезона у моря стало трудно выгибаться, стоять на руках, делать сальто, колесо, и по совету Раскатова взялась за дрессуру комнатных собачек. Приобрела пару шпицев, той-терьера, болонку, карликовых пуделей и вплотную занялась освоением нового жанра, радуясь, что собачки попались послушные, более-менее талантливые.
Осенью номер был готов, комиссия оценила на «хорошо», состоялись премьерные выступления. Все, казалось, было прекрасно: и красавец муж, и новая работа, но пришлось покинуть и Ялту, и Раскатова, который почти на глазах у жены изменял с танцовщицей из иллюзионного аттракциона Эмиля Кио.
От очередного, снова неудачного замужества в душе остались горечь, обида на все мужское сословие и собачки, научившиеся ходить на задних лапках, кружиться, сидеть за миниатюрными партами, стирать с грифельной доски мел, отвечать лаем на простейшие арифметические действия, подбрасывать мокрыми носами надутые шары. Со временем номер претерпел изменения, стал эффектнее, украшал утренники. Все это произошло не без помощи Малышева. Забывая о времени, усталости, он вплотную взялся за дрессуру собачек, не ленился каждое утро в течение месяца проводить с четвероногими артистами репетиции. Когда у актрисы опускались руки от нежелания собачек выполнять приказы, останавливал слезы, продолжал муштровать бессловесных и добился, что номер аттестовали на отлично, Ирине Казимировне повысили ставку.
После аплодисментов Будушевская грациозно раскланивалась на четыре стороны, покидала с собачками манеж и в который раз переживала, что дирекция посмела включить в представление большой аттракцион белых медведей.
«Конечно, публика приходит в первую очередь поглазеть на северных великанов, а не на собачек, но два звериных номера в одной программе нонсенс! На утренниках еще срываю аплодисменты, вечерами же полный провал: взрослых моя лающая группа интересует мало».
Отработав вечернее представление, сняв грим, переодевшись, Будушевская под руку с клоуном возвращалась в гостиницу, где Малышев готовил на тщательно скрываемой от дирекции отеля плитке нехитрый ужин. Ирина Казимировна, как правило, отказывалась есть на ночь глядя, но в разговорах забывала, что надо следить за фигурой, и уплетала пельмени. В ресторан артисты не ходили: во-первых, уставали от людского гомона, во-вторых, опасались, что подадут недожаренный бифштекс.
После ужина Будушевская не забывала похвалить клоуна:
— Из тебя вышел бы преотличный повар и муж — напрасно зарываешь талант. Умеешь угодить любой женщине, о таких, как ты, мечтает любая. Без твоих забот ложилась бы спать голодной, что, впрочем, необходимо в моем возрасте. Не будь тебя, собачки вышли бы из повиновения, к моему стыду, вытворяли в манеже черт знает что, и я стала бы работать гардеробщицей или кассиршей.
— Нельзя разуверяться в себе.
— Ho бывают обстоятельства.
— Не путай человеческую слабость с обстоятельствами, артист должен оставаться сильнее всяких обстоятельств.
— Не сравнивай меня с собой. Ты сильный, а я, как положено женщине, слабое существо. Всякие невзгоды выбивают из колеи, как всадника из седла. — Ирина Казимиров-на убрала со стола посуду, развязала на голове ленточку, и волосы рассыпались на плечи.
Виталий Сергеевич пожелал спокойной ночи и ушел в свою комнату. Будушевская подумала: «Если бы сбросить четверть века, вернуть молодость, построила личную жизнь по-иному, рядом был бы вечный влюбленный Виталик, повзрослевшие дети с внуками…»
Она сознавала, что частенько бывала легкомысленной, влюбчивой, скоропалительно принимала важные решения. «Это сейчас я стала мудрее, терпеливее, лучше разбираюсь в людях, не совершаю ошибок. Нужна ли Виталику, имею ли право перекладывать на него свои одиночество, тоску. Поздно что-либо менять, пусть все остается как есть…»
Присаживалась к зеркалу, накладывала на лицо крем, накручивала на бигуди волосы, завязывала косынку и укладывалась в постель. И под утро видела себя во сне под куполом цирка на трапеции, чувствовала неповторимость полета под куполом и, разжимая пальцы, ныряла в пустоту, которая не имела дна…
Электрик Петя выключил на время антракта на щите рубильник, погасил софиты, прожектора, арена со зрительным залом поблекли.
— Понравилось? Дальше будет еще интереснее — медведи да не простые, а белые, с далекого севера, точнее, Ледовитого океана.
Новая знакомая закивала.
Петя хмыкнул и принялся хвастаться, как сделал почти ручными семейство аллигаторов из реки Нил, выступал с крокодилами и однажды самый кровожадный чуть не откусил у дрессировщика руку.
Девушка широко распахнула глаза, сдержала дыхание. Довольный вниманием, Петя продолжал врать как по писаному:
— Другой на моем месте, слабак, бросил бы работать с опасными зверями, но меня крокодилами не испугать. Понятно, имеется риск, но без него в нашем деле никак нельзя.
— А где… эти… — залепетала очередная знакомая.
— Имеешь в виду того аллигатора? Пришлось списать — коль взбесился, толка уже нет. Сейчас временно командую светом, ожидаю поступления львов, чтоб обучить всяким трюкам.
— Но львы, слышала, тоже очень опасны.
— Придется рисковать собственной жизнью, или сделаю хищников послушными или слопают меня.
Врать Петя мог долго и красиво, но следовало на время отложить очаровывать девушку, заменить в двух софитах лампы накаливания…
Письмо из далекой от волжского города Сибири поступило на адрес цирка. Юрий Николаевич получил конверт от секретарши директора. Не стал читать при посторонних, ушел в свою гримерную, благо шел антракт.
Писал сын Виктор, его почерк на конверте Лосев узнал бы среди сотни других. Письмо шло довольно долго из Тувы, точнее, поселка Тоджа Тара-Хемского района, о чем извещал обратный адрес.
Пишу из центра Азии, где стоит подобный памятник, точнее, из Саянской тайги. Ближайший от нас поселок далеко — добираться около десяти часов, Экспедиция завершится осенью, когда похолодает. Вернемся в цивилизацию вначале по Енисею, затем самолетом в Красноярск, далее в Питер, чтобы сдать отчет, карты, пробы. К тебе приеду в начале зимы — только куда? Где к тому времени станешь выступать? За меня не беспокойся — не кашляю, не температурю, руки-ноги целы…»
Улыбка разгладила морщины на лице инспектора манежа.
«…Одно время заменял начальника экспедиции, но руководить не по мне. Питаемся дичью — тут ее много, муку, рис, крупы, сахар, батареи для рации доставляет вертолет. Вчера к палаткам вышел красавец марал с ветвистыми рогами, поглядел, как мы живем, и ушел. Дружу с проводником, внуком местного шамана. Заимел личную собаку.
Товарищи по партии удивляются, когда жонглирую тремя предметами, показываю нехитрую манипуляцию [11] , чему научился у тебя. Еще раз прости, что не стал акробатом, гимнастом, не унаследовал твою профессию, но лучше быть хорошим геологом, нежели средненьким артистом…»
Лосев открыл на гримерном столике ящик, достал прибереженные для минут волнения сигареты, закурил и стал перечитывать письмо, которое, казалось, пахло дымом костра…
Алла наступала на администратора, и тот пятился от девушки, пока не уперся спиной в стену.
— Тоже мне тайны мадридского двора! Все наши говорят об иностранце в директорской ложе, гадают, кого выберет, а вы не желаете раскрыть рот, утолить любопытство! Кто понравился антрепренеру, кого купит?
— Я не в курсе… Не имею ни малейшего понятия, — лепетал администратор. — Встретил, как было приказано, принес в ложу бутерброды, сельтерскую, спросил, не желают ли кофе…
«Если важный гость явился на начало представления, а не на второе отделение, значит, нужен не только Свободин с медведями. Вопрос: кто. »
Администратор дождался, когда молодая актриса потеряла бдительность, нырнул под руку Аллы, но гимнастка не позволила улизнуть, схватила за полы пиджака.
«Везет Свободину, года нет, как работает с медведями, а на горизонте замаячила поездка за рубеж! Но с медведями, особенно белыми, в Европе будет много хлопот, климат для зверей неподходящий, требуется специальное питание. Мы с Борькой отработали без единого срыва, в отсутствие шефа показали высший класс, должны понравиться…» — Алла представила, как иностранец приходит за кулисы, выказывает восхищение молодой артисткой, предлагает выгодный контракт…
— Извините, мне должны звонить… — залепетал администратор, но Алла ничего не слышала.
«Наш номер, понятно, несравним с аттракционом Свободина, мы с Борькой и Илиасом Мамедовичем проигрываем белым медведям, но нельзя сравнивать разные жанры, каждый хорош по-своему. Свободин работает целое отделение, мы только 12 минут. Не надо терять надежду на лучшее — купят, отправят в Европу и нас…»
Девушка мысленно уже собирала в дальнюю дорогу вещи, видела в зарубежных газетах, журналах кричащие заголовки: «Триумф русских канатоходцев! Звезда цирка на свободной проволоке!»
Тромбонист не смотрел на Гошу Борулю, который возвышался над пюпитрами с нотами и продолжал прерванный первым отделением спор:
— Не перестаю вам удивляться: все наши чуть ли не строем поспешили в буфет или в курилку, вы же караулите инструменты, точно их могут умыкнуть в антракте.
— Ничего не охраняю. Вы, между прочим, тоже остались.
— Мне в буфете делать нечего, когда там отсутствует пиво, а с куревом давно завязал.
— У Фиры для вас под прилавком припрятана бутылочка. Фира расположена к вам, рано или поздно пострадает за нарушение правил торговли.
— Фира знает, где хранить пиво, кому наливать. Последнюю у нее бутылку осушил вчера после представления.
Тромбонист обернулся к манежу, где униформисты свертывали ковер, заносили тумбы, устанавливали проволочную решетку. Музыкант еще ни разу не видел аттракциона белых медведей, впрочем, как и все представление, так как занимал в оркестре место за спинами коллег: выпускник Московской консерватории, четверть века прослуживший в симфоническом оркестре, стыдился, что на пенсии работает в цирке, где музыку заглушает звериный рык, лай, зрители следят за зрелищем и не слушают оркестр. Музыкант молил бога, чтобы знакомые, тем более родственники или сокурсники, не увидели его в цирке, не узнали, где играет некогда лучший в выпуске музыкант.
Малышев собрался снять грим, переодеться в привычный костюм, но вспомнил, что впереди еще одно утреннее представление, затем вечернее. Смял бумажную салфетку, бросил в корзину, чуть не попав в бродившего у кресла гуся.
На время аттракциона белых медведей можно было расслабиться, даже вздремнуть, что Виталий Сергеевич и сделал. Но лишь только положил голову на столик и прикрыл веки, как увидел залитый светом манеж и себя в центре, окруженного барьером круга диаметром тринадцать метров… Воображение помогало клоуну фиксировать собственные ошибки, отмечать натяжки, потерю ритма. Еще мысленно мог придумывать новые репризы, проигрывать их. Посторонние могли подумать, что клоун просто задремал в неудобной позе, лишь Будушевская знала, что при дремоте, тем более во сне Малышев продолжает работать, импровизировать, соединять гротеск с психологической правдой, добивается художественной выразительности, сохраняя при этом буффонадную преувеличенность…
Секретарша директора приколола к доске объявлений листок:
Стоило секретарше отойти, как кто-то приписал:
Явка желающих обязательна, иначе не получат зарплату.
Али Бек с Люсей никогда не посещали цирковой буфет, приносили термос с кофе, бутерброды и для главы молодого семейства любимые им травы — киндзу, тархун. Угощались в гардеробной и вели вполне мирный, не похожий на недавний на повышенных тонах, на грани скандала разговор.
— Твои вопросы, извини, полнейшая чушь. зачем учить собачек прыгать, какая от этого польза, к чему тратить сотни часов на подготовку номера, зная, что в тридцать с хвостиком станешь пенсионером по выслуге лет? От подобных вопросов наша работа тускнеет. К сожалению, не перевелись люди, которые не признают цирк за искусство, считают его балаганом, а нас малокультурными, наделенными не умом, а лишь мускулами.
— Я этого не говорила, — перебила Люся.
Али спокойно продолжал:
— Цирк был и останется праздником, к нам приходят, чтобы насладиться силой, сноровкой, гибкостью тела, умением делать зверей послушными воле человека, на представлении взрослые забывают о годах, становятся детьми.
— Щекочут себе нервы?
— Да, если хочешь, переживая за гимнаста под куполом, дрессировщика среди хищников. Мы не нагоняем страх, публика не ждет, когда артист свалится с высоты, станет мешком костей, а медведь или тигр растерзает на глазах у всех укротителя. Зритель радуется, восторгается, удивляется, и в этом заслуга каждого циркового.
— С тобой невозможно спорить. Лишь спросила, не размениваются ли некоторые наши на дешевые трюки, не потакают ли зрителям, не рассчитывают ли на дешевый эффект? Публике не до философии, к нам приходят увидеть зрелище, и только.
— Опять ошибаешься, — Али подлил жене в чашку кофе.
Перед выходом в манеж Свободин взял себе за правило обязательно зайти к медведям, угостить кусочками мяса, произнести что-либо ласковое, настраивая себя и хищников на работу. Но в этот день на первое утреннее представление не спешил к клеткам и, хмурясь, листал дневник сына.
— Рассчитывал, что забуду проверить и не попадет за двойки? От меня невозможно ничего скрыть!
Сын стоял, опустив к полу глаза, не пытался оправдаться.
— Теперь понятно, отчего вчера вернулся из школы ниже травы тише воды, — продолжал Свободин. — Не разберу, что написала учительница.
— Вызывает в школу родителей, — прошептал мальчик.
— В любой удобный день.
— Выходит, не только схватил за неделю целых две двойки, но и провинился. Что произошло?
Мальчик шмыгнул носом:
— Подрался, но он первым начал!
— Знаю, какой ты задира. И в прежней школе кулаки распускал, и в этой тоже. Решай все конфликты мирным способом, что касается двоек… Желаешь остаться неучем, считаешь, что артисту не нужны арифметика, грамматика?
При постоянной смене городов и школ сыну приходилось привыкать к новому коллективу, завоевывать авторитет среди ровесников. Как все дети артистов, мальчик готовился к выступлениям, изо дня в день репетировал с голубями, совой, пеликаном, чтобы со временем сдать номер комиссии, быть включенным в программу.
— Из гардеробной ни шагу! Будешь учить таблицу умножения, части света и стихотворение. В антракте проверю!
— Я же должен у клетки со шлангом стоять, — напомнил мальчик. — Вроде твоего ассистента: покажут медведи норов — включу воду.
— Стоишь для форса и лишь на утренниках, что нравится зрителям-детям, никто не подозревает, что шланг не подключен. Садись за учебники, забудь про ассистентство и прогулки!
Один из «братьев Федотовых» дымил у открытой форточки.
— Кончай коптить легкие, — посоветовал Дима. — Табак вреден, о чем предупреждают на каждой пачке, особенно спортсменам. Лучше напиши матери, обрадуй, что ходишь на занятия в вечернюю школу, через годик получишь аттестат.
— Разве хожу? — усмехнулся Сашка Збандуто. — Посещаю лишь для консультаций раз в неделю, экстерн не требует ежедневного хождения.
— Можно посещать раз в неделю, а учить следует ежедневно. Знаю, что для тебя писать страшней страшного, но не забывай, что мать волнуется, ждет писем.
— На той неделе послал журнал со статьей о нас.
— Журнала мало, матери нужно твое послание, оно ей во сто крат дороже…
Ирина Казимировна прислушалась: за стеной послышался смех.
«Слава тебе господи, помирились! Давно бы так, а то изволь слушать их ссоры, портить себе нервы: с молодых все как с гуся вода, а мне переживать, словно это я родила Люсю… — Будушевская поправила парик. — Отчего в их ссорах виню одного Али? Люся еще та цаца, характер папин — пальца в рот не клади, тотчас откусит. Надо поругать, чтоб не кокетничала с чужими мужчинами…»
Одной в гардеробной (собачка не в счет) стало скучно.
Ирина Казимировна захотела пойти к Малышеву, но вспомнила, что Виталий Сергеевич может отдыхать между представлениями, и осталась в гардеробной.
Никиты Свободина
Самый рослый в группе Банзай скучал без работы. Не зная, куда деть избыток сил, чем заняться, ходил по клетке, терся о прутья, вставал на задние лапы, урчал. При появлении Никифорова замер, как вкопанный, ожидая от берейтора ругани, уколов в бок.
— Сидишь, тварь? Наел брюхо и доволен. Я с тебя спесь с дурью собью! Избаловали, носятся, как с писаной торбой, считают талантом, а на деле лишь продукты переводишь!
Неприязнь человека и зверя была обоюдной. Никифоров с недавних пор считал Банзая своим главным врагом, кому нет прощения. Самый крупный в группе белый медведь платил Никифорову непослушанием, не будь клетки, снова бы ударом лапы сбил с ног, вцепился в держащую прут руку.
— Думаешь простил? Накося выкуси! — Никифоров состроил из пальцев фигу, и медведь угрожающе зарычал. — Мало тебя били. Будь моя воля, сделал бы шелковым!
Кроме берейтора Банзай ненавидел намордник, но мирился с тем и другим как с неизбежностью. От Никифорова не ждал добра, сыромятная кожа намордника неприятно сдавливала челюсть, не позволяла распахнуть пасть, взреветь во всю глотку.
— Сдох бы поскорее!
Никифоров говорил угрожающим тоном, и Банзай припал к полу, приготовился сделать прыжок, вырваться на свободу, расплатиться с обидчиком за все, что приходилось от него слышать, терпеть.
— Не в манеж тебе выходить, а шкурой лежать под ногами или чучелом стоять!
С опозданием Никифоров заметил Свободина и недоговорил последнюю фразу.
— Что происходит? Отчего Банзай взбешен?
Свободин подошел к клетке, подозвал медведя и, когда тот прильнул к прутьям, почесал за ухом, словно это была любящая ласку собачонка. Отворил дверцу, нагнувшись влез к медведю и надел ему на пасть намордник.
— Позавтракал? Лично я перед работой не наедаюсь, а тебе с пустым желудком нельзя выходить в манеж — станешь думать не о работе, а о еде. Вредно к публике выпускать и насытившимся — будешь сонным, скучным, пропадет кураж…
Если с людьми дрессировщик бывал молчалив, то со зверями отводил душу, веря, что слово не только лечит, но и воспитывает. Медведи любили слушать хозяина аттракциона, успокаивались, если минуту назад что-то беспокоило, злило, выводило из себя. Обращаясь к Банзаю, Свободин прекрасно знал, что медведь не ответит, и сам отвечал на вопросы. Банзай ходил в любимцах, обладал артистичностью, отчего ему прощались разные шалости, например, надо встать на задние лапы, отбивать бросаемые мячи, а он с такой силой машет, что мячи лопаются или попадают в дрессировщика, что нравилось публике, в конце представления совершал отсебятину — кружился, урчал, словно танцевал и подпевал себе.
— Не медведь, а золото, цены нет! Талантлив, как черт. Король манежа! — восторгались артисты.
Свободин опасался, что медведя сглазят, не позволял, чтоб в клетку бросали пирожки, конфеты:
— Он не барышня, которую угощают на свидании.
Банзай попал в цирк несмышленым медвежонком. Родился в скованном льдом океане. Учился у матери азам поведения, охоте на нерпу, рыбу. Однажды из-за торосов вышли невиданные прежде существа на двух ногах. Медведица знала о коварстве людей, подняла дыбом шерсть, стала подгонять сына, но прогремел выстрел, и она распласталась на льду. Медвежонок обнюхал ставшую неподвижной мать, принялся ее лизать, урчать, просить подняться. Звереныша затолкали в мешок — свет померк. Пытаясь вырваться на свободу, он рвал зубами мешковину, кричал как резаный и, устав, уснул. Проснулся в каюте корабля, не стал лакать из банки сгущенку, поднял голову и заскулил, когда же надоело, залез под койку.
Плавание продлилось неделю. Из порта четвероногого жителя Ледовитого океана отправили в зоопарк, оттуда передали в цирк, где медвежонок получил кличку, а Свободин будущего артиста, которого терпеливо обучал всяким фортелям — сидеть на шаре, ходить на задних лапах, лежать на брюхе, возить на себе дрессировщика.
На публику Банзай вышел спустя год. Работал не за подачки, а на совесть, с удовольствием, лучше всего получался боксерский поединок со Свободиным. Отработав все трюки, возвращался в клетку с сознанием выполненного долга.
В часы безделья между репетициями и представлениями не находил себе места. Чуть успокаивался во сне, когда видел необозримые ледяные просторы, торосы, сияние на небе, убегающих нерп и, главное, мать, облизывающую шершавым языком. Мотая головой, просыпался и от обиды, что все лишь приснилось, ходил по клетке взад-вперед. Настроение улучшалось к выходу в манеж, когда оказывался в центре внимания зрителей, слышал гром аплодисментов.
— На вашем Банзае весь аттракцион держится, другие косолапые выглядят жалко, как приготовишки, — говорили Свободину.
Во время медвежьего аттракциона почти все артисты собирались у форганга, восторгались работой дрессировщика и его подшефных. Не любил медведей, особенно солирующего Банзая, лишь Никифоров.
В дни болезни дрессировщика Никифоров сам проводил плановые репетиции, чтобы не давать зверям забыть учебу. В отличие от Свободина не просил, а требовал чистого исполнения каждого трюка, требования подкреплял ударом прута. Не играл с медведями, а муштровал, не уставал ругать, угрожал убить, изготовить из зверей шкуры, из туш — колбасу.
— Ты у меня попрыгаешь, порычишь, тварь! Выбью уж всю дурь, станешь шелковым, забудешь, как выпускать когти, огрызаться!
Банзай долго терпел унижения, когда же терпение иссякло, ринулся на берейтора, выбил у него прут, вонзил когти в руку.
Никифоров заголосил, бросился к дверце, выскочил наружу и стал баюкать раненую кисть:
— Взбесился! Немедленно пристрелить!
Банзай ревел, бросался на клетку, скалился, желая отплатить обидчику.
С опозданием появился еле стоящий на ногах из-за высокой температуры Свободин. Войдя в клетку, погладил Банзая по загривку:
— Зачем безобразничаешь? Прежде такого за тобой не водилось. Сильно обидели?
Когда медведь успокоился и его увели с манежа, дрессировщик обернулся к Никифорову:
— Чтоб духа твоего больше тут не было!
Никифорову сделали перевязку — рана была неопасная, царапина зажила за считанные часы. Берейтор собрался жаловаться на руководителя аттракциона в местком, дирекцию, даже подать в суд, но вовремя одумался.
Свободин остыл, искать в середине сезона нового опытного, умеющего обращаться с хищниками помощника было делом долгим, трудным, перестал поручать Никифорову проводить репетиции, поручал лишь кормить зверей, мыть их струей из шланга, чистить клетки.
Некоторое время в цирке обсуждали нападение медведя на берейтора. Одни артисты осуждали Банзая, так как признавали только болевой метод дрессуры, когда способности животного будят страхом, болью, другие доказывали, что ласка дает несравненно больше результатов, зверь не должен ожидать от хозяина агрессии, полностью доверяя дрессировщику, показывать больше трюков. Что бы ни говорили, но Банзай еще долго оставался недоверчивым, работал из рук вон плохо, ошибался в исполнении приказов или отказывался их делать. Пришлось Свободину перейти на репетиционный период. Начал с азов, и постепенно Банзай поверил, что хозяин — друг, за ошибки не сделает больно, не надо опасаться промахов — коль случатся, следует повторить трюк. Спустя месяц аттракцион вернулся в программу, но, к огорчению Свободина, Банзай нет-нет да вспоминал конфликт с берейтором, становился неуправляемым.
— Перестань перед выходом портить Банзаю настроение, — потребовал у помощника Свободин.
— Я что, я ничего, — оправдывался Никифоров.
— Убирай клетки во время представления, а не при медведях. И проверяй конину: в прошлый раз привезли с душком.
— Может, медведям антрекоты давать?
Дрессировщик не ответил, вместе с берейтором покатил клетку по закулисному лабиринту к форгангу.
И был апрель, и было воскресенье, и в цирке давали еще два представления.
Долгая ночь сорок первого
Это случается каждый раз, когда ночью в поезде в настойчивый перестук колес неожиданно врывается бессонный гудок паровоза. Как от толчка, я тотчас просыпаюсь и вновь все вспоминаю, точно с летней ночи сорок первого года не минуло более полувека, словно все произошло вчера…
Состав тащился по равнинам, сквозь леса, мимо деревень, подолгу простаивал в городах у водокачек, пропуская воинские составы, и сколько еще часов, точнее, суток ехать до конечного пункта, не ведал никто из работников детского дома, сопровождавших в эвакуацию своих воспитанников, а с ними детей комсостава Красной Армии. Когда воспитательницы спрашивали угрюмого проводника с деревянной ногой: «Когда прибудем в Сталинград?», в ответ проводник плевался и так далеко посылал фашистов, что женщины смущенно отворачивались. Ничего вразумительного не мог ответить и начальник состава.
Шло к концу невыносимо жаркое лето. На запад проносились платформы с зачехленными орудиями, танками, полевыми кухнями, теплушки с красноармейцами, на восток спешили (или плелись, как мы) составы с заводским оборудованием, беженцами. Я был в их числе и бережно хранил в кармашке подаренную отцом перед уходом на фронт звездочку с командирской фуражки.
Стоило нашему составу замереть на очередной станции, как среди взрослых возник ропот:
— Везем более пятисот детей дошкольного возраста, все измучились, устали питаться всухомятку!
— Где раздобыть уголь, чтобы вскипятить в титане воду?
— Что будем делать, коль начнутся болезни?
— Хлеб на исходе! На остановке отыскала на вокзале ларек, подала продуктовые карточки, а мне в ответ: «Посторонних не обслуживаем»!
Старшая в вагоне отдала указание запастись свежей, обязательно кипяченой водой, отправилась отоваривать карточки на хлеб, жиры, сахар, разрешила вывести детей на прогулку:
— Вначале старшую группу, затем младшую. Гулять возле вагона и ни шагу в сторону.
— Гулять! — пронеслось среди малышей, и не прошло пары минут, как детские голоса огласили чахлый пристанционный сквер, где листья деревьев покрыла копоть паровозных топок. За несколько суток пути мы все отвыкли, соскучились по неподвижному миру, казалось странным, что под ногами не перестукиваются колеса, не пахнет гарью, не дрожат полки, стены. Все стали излишне шустрыми, шаловливыми, какими были до посадки в состав, скакали на одной ноге, смеялись, спорили, даже задирались. Но вскрикнул гудок, и взрослые с поспешностью загнали обратно в вагон. И вновь за окнами плыли перелески, поля, телеграфные столбы с сеткой проводов, снова хныкали, ссорились из-за места, игрушки…
Bo время одной остановки на носилках унесли воспитательницу тётю Варю. Перед прощанием она попросила нас не высовываться в окна, не убегать в тамбур, а с Никодимова взяла честное слово не обижать младших. Больше тетю Варю мы не видели, ее заменила девушка с пионерским галстуком.
— Разве взрослые бывают пионерами? — удивился Никодимов.
— Редко, но бывают, — улыбнулась девушка. — Например, я, вожатая.
— У меня есть звездочка! Вот! — похвастался я и показал отцовский подарок.
— Можешь носить, ты же октябренок, — разрешила вожатая и поинтересовалась, чем мы занимаемся.
Со всех сторон посыпались ответы:
Один из малышей пожаловался на Никифорова:
— Это никуда не годится, — заключила вожатая, усадила нас вокруг себя и стала рассказывать сказку про Мальчиша-Кибальчиша, которую я слышал от мамы, поэтому незаметно отступил в коридор, оттуда в тамбур, где беседовали проводник с поварихой.
— Который уж день всухомятку детишек кормим. Не на чем сварить крупу, макароны. Детишки не жалуются, но вижу, что хлеб с джемом осточертел. Без жидкого желудки заболят…
— Так приносят же кипяток, пусть дуют чай, — посоветовал проводник.
— Чай не еда, чаем запивают еду.
— Доберетесь до Сталинграда, там уж отъедятся. Твой-то воюет?
— Не один, а с сыном. Сердце болит: с дороги отец прислал открытку, а сын молчит.
— Видать, не до писем.
— Лишь бы живы остались… — Торопили с отъездом, еле узел с необходимой одежкой собрала. На вокзале долго ждали поезд, хотела домой сбегать, пальто с шалью забрать, да не успела.
— Война до зимы кончится, погоним ворогов обратно в ихнюю Германию…
Я не стал дальше слушать, вернулся на выделенную мне с Никодимовым полку, положил голову на чемодан, на котором химическим карандашом мама написала нашу фамилию, прижался щекой к дерматиновому боку и стал вспоминать, как прощался с мамой, как она целовала, просила хорошо вести себя… Глаза стали слипаться, и я заснул, пока Никодимов не толкнул в бок:
— Вставай, не то кашу проспишь. Я уже съел. Вкусная каша — за уши не оттащить. Военные одарили, их вагоны рядом с нашим стояли, у них кухня что надо.
Со сна я не сразу понял, где нахожусь, куда подевалась мама, просившая не потерять шапочку-испанку, носовой платок. Когда понял, что мама приснилась, глаза стали мокрыми. Никодимов не позволил зареветь, хлопнул по плечу. Он был старше на целых два года, на шестилетних смотрел сверху вниз, чувствуя свое превосходство, иногда отвешивал подзатыльники. Мы заслушивались, когда в отсутствие рядом взрослых затягивал бесшабашную песню про Любку-дешевку, хотя в песне было много непонятных слов, быстрее всех он справлялся с завтраками, обедами, ужинами, жаловался, что не насытился, и мы делились пайками.
— Не хнычь, ты же не девчонка. Во сне плачь, а как проснешься, молчи. Бери ноги в руки.
Он привел меня в купе, где повариха раскладывала по мискам гречневую кашу и беседовала с вожатой:
— Не горюй, что забыла продуктовые карточки, без них накормлю.
— Срочно вызвали в райком, приказали ехать с вами.
— Прибудем в Сталинград, новые карточки дадут, рабочие, по ним больше продуктов, нежели иждивенским… С карточками понятно, а отчего не взяла вещички?
— Они всегда со мной, еще на второй день войны собрала необходимое, — вожатая кивнула на узелок.
Я получил миску с ложкой, стал уплетать кашу в обе щеки, тем же занялись и остальные дети. После ужина вожатая стала читать стихи про Бармалея, Айболита, загадала несколько загадок. Когда за окнами возник сумрак, в тамбуре зажгли фонарь, прозвучал приказ готовиться ко сну, что детям не понравилось:
Вожатая в растерянности посмотрела на повариху, ища у нее помощи, но довольно грузная (как положено работнице кухни) женщина уставилась в окно, где несмело горела ранняя звезда.
— Сколько тебе стукнуло?
— Восемнадцать, — призналась вожатая.
— Чай, в армию просилась?
— Как догадались? — вопросом на вопрос ответила девушка.
— Это дело не хитрое: почитай, все молодые желают с врагами биться. Парней берут сразу, а девкам от ворот поворот, призывают только медичек.
— Бывают же исключения.
— Бывают, скажем, это война: ее не ждали, а она вот она.
— Я бы научилась перевязки делать, с поля боя раненых выносить…
Дальше разговор я не слушал, прижался к теплому плечу вожатой, радовался, что не отправляют спать, и следил за полетом бабочки, которая билась в оконное стекло.
Спать улеглись без напоминаний. Вагон наполнился ровным дыханием, лишь изредка кто-то из малышей всхлипывал. За составом продолжали убегать темное небо, придорожные столбы, первая звезда светила уже ярко…
He помню, какой тогда мне снился сон, запомнилось, что ничуть не беспокоили отсутствие под головой подушки и жесткая полка, видимо, сказывалась усталость…
Проснулся от протяжного гудка — он был странным, если прежде паровоз кричал отрывисто, коротко, то теперь стал протяжным, долгим и пугающе недобрым. Под полом не стучали колеса, за окном не бежали тени, столбы, поля и перелески — состав замер среди равнины, на полях с неубранными копнами сена.
Неясная еще тревога передалась от мала до велика, в первую очередь малышам, которые наполнили вагон плачем. Одни ревели навзрыд, другие заливались во весь голос. Заплакал и я.
В тамбуре под потолком горела керосиновая лампа, при ее неярком свете все казалось угрожающим, незнакомым.
Повариха не находила себе места, пыталась безуспешно успокоить то одного, то другого. Сохраняла спокойствие только вожатая.
— Чего разнюнились? А ну повторяйте за мной: «Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед, а за ним зайчики на речном трамвайчике…»
Никто не поддержал девушку, плач не утих, не умолк и паровозный гудок.
Вожатая обняла сидящих рядом, продолжала декламировать, и так до той минуты, пока гудок не поперхнулся. И тотчас в вагон ворвался начальник состава:
— Выводите детей! Только без паники!
Он схватил в охапку двух подвернувшихся малышей, отнес в тамбур, спустился по лесенке, поставил на щебенку и вернулся за другими маленькими беженцами.
— Не копаться? Вещей не брать!
— Ботинки можно не шнуровать!
Хромая в надетых наспех сандалиях, тапочках, путаясь в тесемках штанишек, мы заспешили к выходу, где нас по цепочке с рук на руки передавали взрослые.
В ночи слышались отрывистые команды, несмолкающий плач и все приближающийся с высокого неба гул, который заглушил все, перешел на противный вой — так кричат кошки, когда их дергают за хвосты или наступают на лапы.
Чьи-то руки схватили меня, бросили к откосу и, сдирая с коленок и локтей кожу, я плюхнулся в неглубокую лужицу тухлой воды.
Кошачий вой с неба нарастал, перешел в оглушающий грохот. Стало светло — вспыхнула замыкающая состав теплушка.
Рядом в канаве лежали две девчонки — у одной сарафан был надет задом наперед, у другой лишь одна нога в чулке. Мы дрожали, но не плакали.
— Где Никодимов? Се-ре-жа! — позвала вожатая, и мы увидели старшего среди малышей, стоящего на подножке вагона и всматривающегося в небо.
Вожатая крикнула, срывая голос, но Никодимов не слышал или не желал слышать, к тому же голос заглушила пулеметная очередь с летящего самолета.
Вожатая вскочила, стала взбираться по откосу, отчего на нас посыпалась щебенка. Девушка стащила с лесенки Никодимова, и тут, вдавливая нас в землю, на всех обрушился грохот…
Ночь июля сорок первого года показалась самой долгой среди вереницы других прожитых мной ночей…
Утро выдалось туманным, серым, наполненным гарью. Из семейки деревьев надрывно кричали галки. Ежась не от холода, прижимаясь друг к другу, мы толпились у вагона и глазели, как двое в военной форме с проводником забрасывали землей вырытую близ путей могилу.
— Как не удосужились узнать фамилию? Ведь провели с ней целый день! — отчитывал повариху начальник состава.
— Так ведь… кто знал… — неумело оправдывалась женщина. — Про разное разговоры разговаривали, а имечко с фамилией не спросила… Знаю, что комсомолка, еще вожатая, мобилизованная…
Когда в серую утреннюю мглу проскользнули неяркие рассветные лучи, состав тихо тронулся, покатил на восток, где над лесами, полями, городами, селами поднималось солнце.
— А теперь спать! — устало приказала повариха. — Всем на боковую и чтоб ни гу-гу!
— А сказку? — напомнил кто-то из малышей.
— Какую еще сказку? — удивилась повариха.
— Про буржуинов и Мальчиша — мировая сказка, — уточнил я.
Такую сказку повариха не знала и, чтобы не докучали новыми просьбами, поспешила уйти.
Спать после пережитого, бессонной ночью никому не хотелось. Никодимов шикнул на лежащую напротив девчушку:
— Чего глаза разула? Сказано было спать — так спи!
— А у меня Лялечку убили.
— Куклу. Пулей убило.
— Куклу нельзя убить, — не согласился Никодимов. — У кукол внутри опилки.
— Нет, можно, — стояла на своем хозяйка куклы.
Я подумал: а может, и правда можно убить куклу?
Не знаю, как звали девушку-вожатую, рассказывавшую в полном детьми вагоне про не выдавшего буржуинам военной тайны Мальчиша и спасшую Сережку Никодимова. Но каждый раз в дороге, услышав в ночи паровозный гудок, я всматриваюсь в темноту, надеясь увидеть близ железнодорожных путей неприметный холмик.
Катер полз по одному из рукавов Дуная, точно на ощупь, тарахтел мотором, попыхивал из трубы дымком.
Бригада сидела на порожних, обсыпанных рыбьей чешуей ящиках, лениво поглядывала на проплывающие низкие берега. Рыбаки были в одинаковых парусиновых штанах, неряшливо заправленных в голенища сапог, клеенчатых куртках. На баке кто-то фальшивя затянул:
Как плаваем в море,
В нашем баркасе вода,
Вокруг только смерть,
Вокруг только горе —
Вот она жизнь моряка-а…
— Заткнись! — прикрикнул на певца Микитыч — старик с кривым, свернутым в давнишней драке носом, разными глазами — одним синим, другим серым в крапинку, — и песня оборвалась на полуслове.
Уже не первый сезон Микитыча единогласно назначали бригадиром.
— Есть предложение в третьей бригаде главным оставить Микитыча, то есть Качуру, — заявлял на собрании директор рыбколхоза и слышал в ответ:
— Другого не хотим!
— Микитычу вновь бригадирствовать!
К доверию Микитыч привык, к постоянному бригадирству относился как к само собой разумеющемуся. Но каждый раз, услышав поддержку своей кандидатуры, принимался отказываться, ссылаться на немалые годы и после уговоров словно делал всем одолжение:
— Ладно, только вам же хуже будет.
Микитыч лукавил — хуже бригаде не бывало — бригадир по-деловому налаживал работу, главное, знал одному ему известные повадки рыбы, тайны лова. Скажем, ставила соседняя бригада сети возле протоки, надеясь выполнить недельный план, а выбирала сети пустыми. И тут же на протоку спешил Микитыч со своими рыбаками.
— Погодить треба. Ставить будем опосле, как солнце реки коснется, — приказывал старик и наутро, на зависть другим, в сетях оказывалось до тонны первосортной сельди.
Все в бригаде беспрекословно слушались бригадира, отчего постоянно выполняли, а то и перевыполняли план, из квартала в квартал получали премиальные, ходили в передовиках.
Микитычу прощалось многое, в том числе излишняя грубость: в бригаде знали, что понапрасну, от дурного настроения не отругает, не пошлет черт знает куда, всегда бывает прав.
— С Микитычем робить можно, — уважительно говорили про старика, и в совхозе не было рыбака, кто бы не мечтал попасть именно в его бригаду, но тут дело упиралось в самого бригадира: захочет — возьмет, а нет — не взыщи. Микитыч принимал людей с оглядкой, всяких шарамыжников, с ленцой, любящих отлынить от тяжелой работы, отыскать легкую, не требующую усилий, гнал в три шеи, отчего со временем собрал проверенных, трудолюбивых.
Микитыч дернул себя за мочку уха костлявыми пальцами, повел хмурым, исподлобья взглядом по скучающей на палубе бригаде, уставился на Кирилла Лободу.
Самый молодой в бригаде понял все без слов, протянул коробку из-под леденцов с мелко нарезанным самосадом, который сам не употреблял, держал исключительно для любителей крепкого табака.
— Сверни, — приказал Микитыч и пошевелил губами.
Мимо катера плыла коряга, стоило ее подхватить течению, как «козья ножка» была готова, старик заломил конец и сунул под прокуренные усы.
Кирилл чиркнул спичкой по коробку. Микитыч закурил. В груди с хрипом затрепетало. С удовольствием откашлялся и вновь глотнул дым. Точно дожидаясь, когда закурит бригадир, потянулись за сигаретами, папиросами другие рыбаки.
Давно подмечено, что во время курения человек добреет, у него появляется желание поговорить о житье-бытье, так сказать, пофилософствовать.
— Где бы шифер раздобыть? Мне б листов пять на крышу. Жена замучила: «Латай крышу, не то осенью в дом потечет!» — пожаловался один.
Сосед заговорил про пережитое:
— В армии махорку попробовал, не табак, а чистая смерть: со свистом внутрь заходил, душу наизнанку переворачивал. Имя той махре было «душегуб»…
На баке говорили об ином:
— Самая божеская закуска — редька, а еще, коль не врут, здорово кефиром запивать: спиртный дух сразу улетучивается, ни жинка, ни гаишник не придерутся…
— Пацанка она фигуристая, только с норовом, что та кобылица. Я к ней и с одного бока, и с другого, а она неприступность показывает, и чего блюдет, коль разведенка и сынок за юбку держится.
— Больше трех сотен за каюк не плати, однопарка нынче дешевле, но на ней слишком многого не увезти — осадку даст, может перевернуться…
Разговор шел неспешный, немного ленивый. Молчали лишь двое — Микитыч, который не любил без толку сыпать словами, хорошо зная им цену, и Кирилл, мягко улыбающийся, отчего лицо становилось круглее, добродушнее, при молодых годах выглядел совсем мальчишкой. Он не слушал разговоров на баке и думал о Клавдии — Клаве: стоило сощуриться, как видел ее в белом платье и фате…
Неделю назад Кирилл с Клавой сидели на почетных местах за свадебным столом. Торжество началось после возвращения из загса, длилось субботу, затем ночь, продолжилось в воскресенье, когда гости выпили изрядно, осоловели, кто-кто дремал, кто-то тыкал вилкой в пустую тарелку, у другого чесались руки от желания подраться.
Рано утром в понедельник, когда Дунай сливался с черным небом, Кирилла увели от жены на пристань: шла путина, каждый человек был при деле.
Клава хотела проводить мужа до катера, накинула было на плечи кофту, но рыбаки остановили:
— Не на месяц Кирка уходит, жди в субботу.
И Клава осталась у калитки, а Кирилл, боясь при друзьях оглянуться, косолапо зашагал к невидимому во мраке причалу.
Всю неделю бригада с ухмылками поглядывала на молодожена, нет-нет пускала в его адрес двусмысленные остроты, давала советы, от которых сами ржали.
Кирилл взял пример с бригадира, набрал в рот воды, на вопросы не отвечал, советы пропускал мимо ушей. Вместе со всеми ставил сети, выбирал их, собирал с палубы рыбу, грузил улов в ящики и не обижался на рыбаков, зная, что подкалывают и осмеивают не по злобе, а потому, что над молодоженом положено подтрунивать после хмельного застолья, приходится терпеть, раз простился с холостяцкой жизнью. Выслушивая очередную в свой адрес шутку, Кирилл краснел, отчего на носу резче проступали веснушки, и тотчас все вокруг взрывались хохотом. Так минула трудовая неделя, показавшаяся Лободе бесконечной…
Чуть не задев мачту, над катером пронесся мартын. Птица коснулась острым крылом воды и взмыла, устремясь к зарослям осоки, затем вернулась и вновь закружила над рыбаками.
Мартын долго сопровождал бригаду, не желал отставать, на какое-то время перегонял судно и с победным видом оглядывался, словно хвастался: «Вот я какой! Куда вам до меня!». Когда катер обогнул песчаную косу и показались выбежавшие к берегу дома поселка, мартын повернул к морю.
— Гляди-ка: бабы-то опять приперлись! — воскликнул один из рыбаков, вглядываясь в тонущий в вечернем сумраке причал.
Остальные на катере подались чуть вперед и также увидели у кособокого склада женщин — издали их можно было принять за стаю молчаливых птиц.
— И не лень каждую субботу встречать!
— У них это стало за привычку.
— Неужто других дел нет, как лишь встречать?
Женщины приходили к причалу по субботам, несмотря на погоду. Встречались у закусочной, делились новостями, жаловались или хвалились детьми. На дом при дороге, в котором разместилась закусочная с громким названием «Дунайские волны», с чей-то легкой руки переименованная в «Бабьи слезы», женщины старались не смотреть, плевались, самые зубастые пускали крепкое словцо в адрес буфетчицы.
— Чтоб сгорела со своим змеюшником! Чтоб на нее ревизия была, нашли растрату и в тюрьму упекли! — от души желали буфетчице Фросе, и тому была веская причина: возвращаясь с путины, мужья прорывались сквозь заслон жен в «Бабьи слезы»; на требование идти домой не обращали внимания. Порой в семьях ждали неотложные дела, встреча с приехавшим родственником, праздничное застолье, но рыбаки не нарушали укоренившуюся традицию. Наперекор женам рассаживались в закусочной, заказывали по кружке пива, нужное количество поллитров, карамелек для закуски. По домам расходились ночью, что до слез сердило женщин, заставляло их еще больше ненавидеть Фроську с ее заведением.
Рыбаки всматривались в женщин на берегу.
— Оно понятно, — объяснил один из умудренных жизнью, — бабе надо, чтоб ейный мужик завсегда был возле ее юбки, на сторону на смотрел и, главное, оставался трезвым.
— Знают ведь, что пока не выпьем норму, с ними не пойдем, — добавил другой.
Не дожидаясь, когда с берега на борт лягут сходни, рыбаки перепрыгнули с зыбкой палубы на причал. А оказавшись на твердой почве, оглянулись.
Микитыч докуривал самокрутку, когда огонек коснулся заскорузлых пальцев, щелчком отправил окурок за борт и лишь затем ступил на сходни.
— Гляди-ка, Кирюха, и твоя приперлась!
И верно: среди женщин была Клава, не решавшаяся при рыбаках броситься на шею мужа.
— Ты… зачем пришла? — тихо спросил Кирилл.
— Я, как все… — робко прошептала Клава и через плечо мужа посмотрела на бригадира, переняв от других жен беспрекословное подчинение Микитычу.
Старик вышел на дорогу, за ним послушно, как за вожаком, потянулись рыбаки, позади — женщины.
Рыбаки во главе с бригадиром шли молча, прекрасно зная, что стоит поравняться с закусочной и женщины начнут тянуть мужей домой, рыбаки примутся отбиваться, просить не позорить.
Увидев, как Микитыч свернул к «Бабьим слезам», первой вскрикнула его высохшая к старости жена: она не пыталась удержать мужа, вскрикнула по привычке, за ней заголосили другие женщины:
— Креста на вас нет! Совесть совсем утеряли!
— Дом и семья у тебя на последнем месте, на первом выпивка!
— Чтоб Фроське сказиться!
Бригада не обращала на крики внимания. Каждый рыбак здоровался с гостеприимно распахнувшей двери закусочной буфетчицей: дородная, будто поднявшаяся на дрожжах, Фрося стояла у порога, сложив на пышной груди холеные руки.
— Здорово, корчмариха! — Микитыч сощурился, ткнул Фросю пальцем в бок — Ишь, какие телеса наела!
— Разве плохо? Бабы завидуют, мужики облизываются! — грудным басом рассмеялась Фрося.
Микитыч оглянулся на пробивающуюся через заслон женщин бригаду. На дороге, точно одеревенев, оставался один Кирилл. Парень переминался с ноги на ногу и не сводил виноватого взгляда с Клавы, в чьих глазах был не укор, а удивление.
«Извини, — без слов оправдывался парень. — Не могу товарищей бросить, куда они — туда и я, коль не пойду — нанесу обиду…» — «А как же я? — спрашивала Клава. — Вспомни, как обещал всегда вместе быть…» — «Помню, только бригада не поймет, коль покину ее…» — «Выходит бригада дороже меня. »
Кирилл кусал губу. Он был не в силах оставить Клаву у забегаловки, в то же время не мог пойти против бригады.
Неожиданно на плечо молодого рыбака легла рука Микитыча. Щуря серый глаз, бригадир прятал в уголках щербатого рта усмешку.
— Зачем жинку на ветру студишь? Пришла, внимание оказала, а ты с ней в гляделки играешь, — старик обернулся к Клаве: — На столе от свадьбы осталось чего? В смысле грибков или пирога с луком? Коль не подмели все вчистую — зайду завтра, ежели не прогонишь.
— Милости просим! — заторопилась Клава, еще не веря, что Кирилла не уведут в проклятые рыбачками «Бабьи слезы». Боясь, что бригадир передумает отдавать ей мужа, схватила Кирилла за руку и повела к мостку через топкий ерик.
Микитыч дождался, чтоб молодожены скрылись за тополями, и с опозданием заметил среди женщин свою жену, которая придерживала концы головного платка и поджимала губы. Старик всмотрелся и удивился, что время не тронуло глаза его старухи, они по-прежнему глубоки и бездонны, как море. Впервые Микитыч обратил внимание на льющуюся из глаз жены ласковость сорок с лишним лет тому назад на свадьбе. Послушный крикам «горько!», наклонялся, притрагивался к испуганно дрожащим губам под взглядом доверчивых синих глаз. Вспомнилось, что жена постоянно встречает у причала, вначале приходила одна, затем на сносях, потом с двумя детьми.
— Пошли до дому, — сказал Микитыч и вразвалку двинулся к поселку.
А рыбаки и умолкнувшие женщины оторопело, с непониманием смотрели вслед бригадиру. И белорукая буфетчица тоже. Когда же поняла, что выручки нынче не будет, чертыхнулась и пошла до срока закрывать закусочную.
Калитка в синеву
Все произошло более полувека назад, летом 1959 года, когда Кире Петровне было за тридцать, но за прошедшие годы ничего не сточилось, не угасло в памяти.
Ha станцию Кармыши поезд прибыл туманным утром. Кира Петровна ступила на перрон, где бродил выводок непугливых кур, от скуки, за неимением покупателей, зевала продавщица вареных яиц, яблок, помидоров, и подумала с досадой, что отпуск бывает лишь раз в году, не стоило его тратить на захолустье, сонную глушь: «Напрасно согласилась на эту путевку, подождала бы и получила в Прибалтику или Черноморье…»
Дождавшись, чтобы железнодорожный состав пронесся за спиной, обошла вокзал, встала у стайки запыленных тополей.
— Вам в дом отдыха? — спросил человек в парусиновом пиджаке, не стал дожидаться ответа, подхватил чемодан. — Я массовик, заменяю администратора.
В автобусе Кира Петровна оказалась единственной прибывшей по путевке. Собралась поинтересоваться у встретившего, далеко ли ехать, но массовик спал, уронив голову на грудь.
Прошло не менее часа, пока автобус миновал арку с выцветшим транспарантом «Добро пожаловать!» и замер среди сосен, где у цветника с неправдоподобно яркими цветами стояли два белоснежных корпуса — один жилой, второй со столовой, кинозалом, библиотекой, дирекцией, складом спортинвентаря.
Кира Петровна сдала путевку, заполнила анкету, получила ключ от комнаты, где в окна заглядывали мохнатые ветви, виднелся луг с белеющими в траве ромашками и далее лес.
Вскоре пришли соседки — шустрая студентка и дама в летах, первая позвала играть в бадминтон, вторая предложила помочь с укладкой прически к вечеру танцев. Перед обедом Киру Петровну увели купаться в тихой речушке, показали грибное место в старом лесу, рассказали, что по ночам округу будит бессонный сыч — кричит жалобно, словно на что-то жалуется, как большой секрет сообщили, что в сельмаге Осинок со дня на день ожидают поступления французских духов.
Название села показалось Кире Петровне знакомым: «Уже слышала про эти Осинки или читала, но когда, где не вспомню. Что связано с Осинками?».
Услышав, о чем беседуют за столом, официантка призналась, что проживает в Осинках:
— Каждое утро шагаю оттуда на работу, по большаку чуть более пяти верст, обратно ловлю попутный транспорт. До войны была деревенька, теперь целый поселок с сотней строений. Коль желаете в сельмаг, советую по шпалам идти, так быстрее.
«Осинки… — повторила про себя Кира Петровна. — Впервые в этих краях, а название знакомо, даже чем-то дорого…»
Неожиданно из далекого далека в памяти возникло письмо в самодельном конверте, неумело склеенном из оберточной бумаги. Письмо пришло летом победного 1945 года, обратный адрес был: Гомельская область, п/о Осинки, Фроловой Клавдии. Письмо занимало две странички школьной тетрадки в клетку:
Здравствуйте, Трушина Кира, пишу, выполняя последнею просьбу известного Вам Николая Ивановича, который наказал, как освободят район с областью от немцев, непременно отписать его жене…
Кира Петровна взглянула в конец письма, а потом вернулась к началу, аккуратно выстроившимся строкам:
На могилке его с весны до поздней осени живые цветы. При немцах нельзя было никому знать, что у меня за домом похоронен умерший от ран старший лейтенант, интендант третьего ранга, иначе не сносить головы. Знакомые советовали дать знать военкомату, чтоб перезахоронили на площади в Осинках, где братская могила погибших при освобождении поселка, но я не захотела, за это уж простите. Коль будет времечко и желание, милости просим к нам помянуть Николая Ивановича. А добираться просто: сначала поездом до станции, затем по железке, по шпалам (так короче) до дома путевого обходчика, где я проживаю, обслуживаю свой участок.
С приветом и пожеланием всего хорошего Фролова Клавдия.
«Какая могила, что за Осинки?» — не поняла Кира Петровна и наконец дошла до объясняющих все строк:
…Умер Николай Иванович под вечер 16 декабря 1943 года, не мучился, был без памяти. Имелся бы доктор, может, оклемался, только кроме немецкого врача в округе других лекарей не было, узнай оккупанты, кого прячу, пытаюсь на ноги поставить, убили нас обоих. Извините, что сообщаю о смерти товарища Трушина с опозданием, но район освободили только в 1944 году, в самом его конце, почта не работала…
«Боже, пишут о Коле!» — чуть не вскрикнула Кира Петровна, схватилась за голову.
Мужа призвали в июле 1941-го, обещал написать по прибытии в часть, но письма, даже открытки не прислал, а после войны сообщили, что старший лейтенант Трушин Н. И. пропал без вести.
Кира сначала не поверила, что больше не увидит Колю: «Пропал без вести? Разве такое бывает? Почему ни слова, где воевал, погиб, где могила?» — спрашивала и не находила ответа. И лишь спустя почти пятнадцать лет судьба привела в край, откуда после войны пришло печальное письмо…
За столом о чем-то спросили Киру Петровну, но она продолжала думать о своем: «Как звали женщину, написавшую то письмо? Федотова, Федорова?»
Отказалась идти в кинозал, осталась в комнате и постаралась вспомнить лицо Коли, но коварная память сохранила лишь незначительные мелочи, вроде оттопыренных ушей мужа, родинку у виска, волосы ежиком, еще как удрали со свадьбы от шумного застолья, долго целовались в парке, пока не задержал милиционер, потребовал документы, но паспорт со свидетельством о браке остался в пиджаке, в кафе, пришлось шагать в отделение, писать объяснение, обещать больше не нарушать общественный порядок… «Жаль, нет ни одного снимка Коли, иначе бы сделала портрет… А до загса знакомы были всего ничего, прожили чуть больше месяца…»
За окнами по-прежнему шумели сосны, доносилась приглушенная музыка то ли с экрана, то ли из фойе клуба, где шли танцы.
«Фролова! Ее фамилия Фролова! — резко подняла с подушки голову Кира Петровна. — А зовут Клава, Клавдия! Завтра же отправлюсь в Осинки, впрочем, в письме говорилось о доме путевого обходчика, а это не в поселке, а по железнодорожной линии…»
На станцию Киру Петровну довез знакомый автобус, далее, как советовала официантка, двинулась по шпалам — попыталась делать широкие шаги, переступать шпалы, но вскоре стала уставать.
Минуло не так уж много времени, когда показались дом в три окна, засматривающийся в небо, у сруба колодца «журавль» — на одном конце для груза старый утюг, с другого свисала цепь с ведром.
«За прошедшие с получения письма годы многое могло измениться, хозяйка сменила место жительства… — Кира Петровна одолела пару ступенек, собралась постучать в дверь, но вместо этого без сил опустилась на невысокое крылечко. — Видимо, шла напрасно…»
— Отчего на солнцепеке маетесь? Заходите — дверь открыта, запираться не от кого.
Кира Петровна обернулась на голос и увидела женщину в косынке с выгоревшими узорами, с лопатой в руке.
— Мне… мне нужна Фролова, — несмело произнесла Кира Петровна и услышала в ответ:
— Я Фролова. Так заходите, на пороге какой уж разговор.
— Знаю, зачем пришли, — перебила хозяйка дома при дороге. — Давненько ожидала, почитай с сорок пятого года, как пригласила. Понимала, что всякие дела удерживают, да и не близко до нас. Сразу узнала по карточке, только там вы куда моложе.
Дверь на самом деле была не на запоре, и, переступив порог, Кира Петровна окунулась в прохладу. Когда глаза привыкли к полумраку, хозяйка протянула поблекшую фотографию девушки в открытом сарафане, в панамке, с челкой на лбу.
— Коля карточку хранил, а я продолжила, — сказала хозяйка.
Следом за фото перед Кирой Петровной лег воинский билет, где Николай был запечатлен на маленькой фотографии, залепленной фиолетовой печатью.
— Все собирался вам отписать, что не в плену и ранен, только не успел, да и руки не слушались, под немцами жили почти год, через фронт письмо не отослать…
Кира Петровна не отрываясь смотрела на мужа — волосы у старшего лейтенанта были непривычно темными, выглядел старше своих двадцати лет…
…Он не вошел в дом путевого обходчика, а ввалился, тут же осев на пол. Клава с матерью бросились к раненому, который был без памяти, гимнастерка на груди намокла, на лбу спеклась кровь. С трудом подняли, уложили на кровать, разжали зубы, влили в рот из ковша воду.
Придя в себя, незнакомец спросил:
— В Осинках стоят, от нас почитай пять верст! — успокоила мать, Клава добавила:
— Лишь разок заглядывали, когда рельсы проверяли, бог миловал.
Стоило раздеть раненого, как он вновь потерял сознание.
Женщины расторопно разорвали на полосы простыню, достали все имеющиеся медикаменты — пузырек йода, жаропонижающие таблетки, порошки от головной боли и желудка.
Гимнастерку с петлицами и кубиками решили сжечь в печи, так же поступить с галифе: немцы могли посетить дом, увидеть военную форму и понять, что в жару лежит не железнодорожник. А воинский билет и карточку улыбчивой девушки спрятали за иконами божницы…
… — Еще у Николая был револьвер, но я его партизанам отдала, они заходили не часто, чтобы немцев не навести. А документ и карточку сохранила.
Кира Петровна благодарно кивнула, накрыла ладонью воинский билет.
В тишине, отбивая секунды, размеренно стучал маятник ходиков, которые на стене с безразличием гнали время. Неожиданно дом вздрогнул, на комоде качнулась вазочка с искусственными цветами, в буфете задребезжала посуда, в окнах прозвенели стекла.
— Минский прошел, — пояснила хозяйка. — Скорый, никогда не опаздывает, следом ждать с юга, из Крыма. Одно плохо: сор из окон выбрасывают, приходится убирать.
— А где… — Кира Петровна не договорила.
Фролова все поняла:
Они вышли на солнцепек. У колодца свернули на огород, миновали делянки с картофельными кустами, подошли к сбитому из досок со звездой на вершине ромбику с табличкой:
Перед бесхитростным памятником на холмике росли цветы на длинных стеблях, в жаркий день они выглядели сонными, завидующими прохладе подступающего леса.
Словно догадавшись, о чем подумала гостья, хозяйка сказала:
— Не уважают цветы теплынь, оживут под вечер. Коль долго не дождит, поливаю, чтоб не завяли. Памятник каждую весну подкрашиваю…
…В разгар зимней круговерти Николай стал кашлять кровью, ослаб, не мог без посторонней помощи подняться, пожаловался на резкую боль в груди, где никак не заживала рана.
— Поменьше разговаривай, вредно для тебя это, — посоветовала Клава.
Николай выпростал из-под одеяла горячую руку, слабо сжал локоть Клавы.
— Очень подвел тебя с матерью: пытались на ноги поставить, а я… — попытался улыбнуться, но улыбка вышла вымученной. — Обещай, что закончишь девятилетку, поступишь в техникум или училище — не век же с матерью быть обходчицей…
— Отчего ни разу жену не вспоминаешь? — перебила Клава, наконец-то решившись на трудный разговор.
Николай отвел взгляд:
— Слишком мало с ней прожил, чуть больше весны и начало лета.
— Все же не чужая, а жена.
— Освободят район, непременно напишу.
— И про нас с тобой?
Николай долго молчал — то ли набирался сил, то ли размышлял, потом стал рассказывать, как ездил за Полярный круг на студенческую практику, ел в стойбищах строганину, пять раз смотрел фильм «Волга-Волга», стоял в футбольной игре на воротах и пропустил лишь один мяч, соорудил во дворе турник, чтобы наращивать мускулы…
Клава слушала и сокрушалась: с Николая не сходила болезненная бледность — лицо стало почти прозрачным, глаза глубоко запали, нос, скулы обострились: «Доктор нужен, только где его нынче взять: у партизан лишь ветеринар. Берегут старшего лейтенанта — рельсы со шпалами рушат далеко от нас, чтобы вражины не нагрянули, Колю не нашли…»
… — Все годы здесь безвыездно проживаете? — спросила Кира Петровна, и Фролова кивнула.
Кира Петровна не отрываясь смотрела на могилу, затем присела на корточки, коснулась рукой цветов, разгладила лепестки.
— Когда отмучился и надо было хоронить, решила не везти в село на погост, предать земле возле дома, где провел последние дни. К тому же не на чем было везти в Осинки, еще опасно — немцы могли прознать, что это красный командир, кого прятали, как могли лечили, тогда бы несдобровать…
Кира Петровна не слушала, что говорит Фролова, думала о своем: «Странно, что Коля для меня остался молодым, я теперь намного его старше… Наверное, всегда буду вспоминать его веселым, лопоухим, корпящим по ночам над дипломом…»
Клавдия вспоминала иное — мерзлую, неподатливую землю, которую пришлось долбить ломом, выгребать лопатой, готовя могилу для самого дорогого человека.
— Коля все собирался отписать вам, да не пришлось — рука карандаш не держала, да и фронт не позволял письмо отослать. Я уж после за Колю написала, только ответа не дождалась, решила, что затерялась весточка или ваш адрес изменился, — Фролова поправила выбившуюся из платка прядь. — Идемте в дом, не то напечет, в полдень самая жара.
В светлице хозяйка поставила на стол тарелку с помидорами, вареными яйцами, кринку козьего молока. Чтобы не обидеть, Кира Петровна выпила пару глотков, проглотила кусочек хлеба. Вновь обвела стены взглядом и остановилась на раме, где под стеклом были семейные фотографии, среди них снимки девчонки — сначала грудняшки, затем дошкольницы, подростка.
— Дочь, осенью пойдет в восьмой класс. Сейчас со школой на экскурсии в Москве, — объяснила Фролова.
Кира Петровна подошла к раме, всмотрелась в фотографии: «Ну конечно, они очень похожи — Коля и дочь хозяйки! Одинаковые глаза, носы, уши! Коля скончался в сорок четвертом, почти пятнадцать лет тому назад, девочке почти столько же…»
Не так, как прежде, по-новому она посмотрела на хозяйку и стала поспешно прощаться.
— Приведется еще побывать в наших краях, милости просим. А про могилку не беспокойтесь, обещаю приглядывать. Извините, что не провожаю — обход надо делать.
Простились, не обнимаясь, не пожимая рук. Выйдя из дома, Кира Петровна оставила на ступеньке Колин воинский билет, для верности, чтоб не смел ветер, придавила лежащим печным ухватом. Поднявшись на насыпь, обернулась. Солнце играло в трех окошках дома путевого обходчика, дом точно прислушивался к верещанию кузнечиков, шелесту крыльев стрекоз, жужжанию пчел, ожидая появления очередного состава, который заставит задрожать рамы со стеклами. Незатворенная калитка приглашала зайти любого доброго прохожего.
Сигнала бедствия не будет
Сочинять письма Филипп не умел и не любил — писать для Лузикова было мучительным делом. Считал не без оснований, что лучше наколоть поленницу дров, подоить десяток коров, прополоть в огороде десять соток, нежели заполнить одну, от силы две странички корявым почерком.
И на этот раз долго пыхтел, корпел над вырванным из тетради листом. Бросил бы дело, да следовало выполнить данное Варе обещание сообщать в хутор о своем житье-бытье хотя бы раз в месяц. Здравствуй, Варя!
Наконец-то выдался свободный от работы денек, а то никак не мог выкроить пяток минут, чтоб написать. Наверно, думаешь, что служить матросом страшно интересно, вкалывать на плашкоуте, плавать по Цимле сплошная романтика. На деле моя работа — сплошная маета, по правде скажу, подумываю бросать ее и переходить на судоремонтный. Пойду туда хоть подсобником, лишь бы не ишачить на рыбзаводе, ломать спину за двоих: дирекция экономит зарплату и вместо двоих матросов держит одного меня.
Не думай только, что ищу легкой жизни, просто осточертело ходить под командованием шкипера, постоянно выслушивать от него всякие обидные слова-замечания. Разнополов страшно вредлив, любит погонять, показать свою власть, будто командует не плашкоутом-развалюхой, а стоит на капитанском мостике теплохода! Терпению моему приходит конец, дождусь получки и подам на расчет. Хватит, наплавался, вволю глотнул донского ветерка и промок! Под завязку сыт матросской работой! В иной день по два рейса делаем.
Недавно заходили в Пятиморск, купил тебе отрез штапеля, ровно 4 м, как просила.
Лети с приветом, вернись с ответом!
Твой Филипп
Исписанные странички из школьной тетради Филипп вложил в конверт, провел языком по полоске клея, для верности прихлопнул кулаком и опустил в почтовый ящик. Затем не спеша продолжил путь на рыбзавод. Шел и думал: «Опять от шкипера попадет, скажет, где шлялся, кто за тебя будет палубу мыть. Зануда, каких поискать! Ни по хорошему, ни по плохому к нему не подступиться, часами как сыч молчит, а то давай покрикивать, командовать, навешивать всяких дел: это сделай, про то не забудь!…В кино аргентинский фильм про бандитов крутят, а ты изволь вкалывать за двоих.
Стоило дошагать до причала, возле которого покачивались плашкоуты с облезлыми бортами, как Филипп увидел Разнополова — тот стоял у висящего на столбе спасательного круга, затем перешел на борт, точно спиной почувствовал приход матроса.
«И чего дома не сидится? — удивился Филипп. — Я-то холостой, мне в четырех стенах делать нечего, в мои годы и моем положении в клубе на танцах ночи проводить. А он женатый, двух дочерей на свет произвел — одна даже сделала его дедом — по всем статьям в семье быть, так нет же, словно привязан к плашкоуту! Без дела минуту не усидит, и на меня всякие поручения навешивает. »
Филипп перепрыгнул с причала на плашкоут и первое, что услышал от шкипера, был приказ почистить кастрюлю, днище закоптилось.
— Да три дня назад драил речным песком! — напомнил Филипп.
И еще что-то собрался добавить в свое оправдание, но шкипера рядом уже не было: запахнув фуфайку (на ней не было ни единой пуговицы), Разнополов спустился в кубрик.
Матрос выругался про себя и не стал выполнять приказ — оставил чистку кастрюли на потом.
Над головой ветер путался в связке вяленой, повешенной на тесьме рыбе. Синьга гудела и, ударяясь друг об друга, издавала дробный стук.
До совхоза «Донской», к обосновавшейся там рыболовецкой бригаде шли почти два часа. Катер словно на ощупь подвел плашкоут к крутому берегу. Тотчас из домика рыб-пункта вышла дебелая повариха. Штурвальный с катера крикнул Филиппу:
— Кидай якорь! Дальше не пойдем, не то на мель сядем. Пусть несут улов. Им-то ничего с двухпаркой, а у меня осадка.
Повизгивая цепью, с плашкоута упал якорь, удачно зацепился на дне за корягу-топляк, отчего суденышко дрогнуло.
До песчаного берега с прожилками извести оставалось чуть больше полсотни метров, их рыбаки преодолели на лодке-двухпарке. Гребли слаженно, было слышно, как весла рассекают воду, как рыбаки дружно выдыхают «и-ох!». Отяжелевшее солнце степенно окуналось в Цимлу. Воздух наливался сумеречной синевой.
He дожидаясь, когда солнце скроется в водохранили-ще, на небе, точно сговорившись, стали проступать первые звезды — вначале робко, затем посмелее, делаясь ярче.
«А в Калаче сейчас вечерний сеанс начинается, — подумал Филипп. — И в моем Паньшино у клуба народ собирается, больше молодежь. Девчата, как принято, сбегаются в кружок, шушукаются, парней обсуждают, пацаны стоят поодаль и покуривают, не подают вида, что явились не на кино иль танцы, а чтоб переговорить с нужной хуторянкой. Те и другие пускают шуточки: девчатам пальца в рот не клади, на любую шутку так ответят, что краской покроешься, будешь готов сквозь землю провалиться…»
Было грустно, оттого что он вынужден вечером не кружиться в танце, не обнимать девушку, а торчать на опостылевшем плашкоуте, холодиться на ветру, грузить рыбу…
— Заснул, что ли? Иль ворон в небе считаешь? Так ведь нет ворон-то! Принимай улов, а мы к соседям сходим — велено ящик пива передать! — крикнули с катера.
Катер выбросил в небо выхлоп дыма, развернулся и, оставляя буруны вспененной воды, скрылся за песчаной косой.
Не успело смолкнуть тарахтение двигателя — минуту назад оно било в уши надоедливым стуком, — как за борт цепко схватился рыжий рыбак. Привстав с лодки, пробасил:
— Семьсот с гаком ныне выходит, премия светит, — рыбак повел взглядом и увидел шкипера: — Ума не приложу, как с планом справились: день вышел невезучий, ветряк с утра, от него, сами знаете, рыба в глубины уходит, ничем ее оттуда не вызвать, хоть поклоны до земли бей, хоть ласковые слова на ушко шепчи.
— Не греши на рыбу, она не глупее нас с тобой, как море взбучит, на дне прячется, — глухо произнес Разнополов и отнес ящик в трюм.
«Ишь ты — заговорил! А от самого Калача ни слова не слышал, — Филипп взялся за ящик с синьгой. — Он вроде филина, который тоже набрал в рот воды, может, оно и к лучшему, не то бы вновь завел свою шарманку, начал учить уму-разуму! Дуется за то, что перечу, огрызаюсь, не позволяю подгонять. »
С каждым очередным ящиком рыбак на лодке разговаривался, рассуждал, по какой причине из года в год снижается улов, кто в этом виноват, с кого спрашивать за выполнение, точнее, невыполнение плана, жаловался, что рыба хитреет не по дням. Напоследок пришел к выводу, что причина в шалостях небесной канцелярии:
— Не скажу, кто на небесах погодой командует, но по всему, решил напустить на людей страху, чтоб не расслаблялись, знали, что они слабее стихий. Только считаю…
Разнополов не дал договорить, потребовал накладную, расписался в получении рыбы. Когда возвращал, ветер чуть не вырвал лист из рук, не унес черт знает куда, но шкипер не позволил ветру озорничать.
Ящики доверху полны рыбой, корзины были тяжелыми, Филипп взмок, таская груз в трюм. Ко всему, тара была мокрой, в липкой рыбьей чешуе, чтоб не уронить, не вывалить рыбу на палубу или — что хуже — за борт, приходилось прижимать к груди, точно спеленутое дитя.
Тридцать четыре ящика и корзины перебрались в трюм, заняли довольно много места, и Филипп порадовался, что недельный улов бригады не перевалил за тысячу килограммов, не то бы подчистую отмахал руки, натрудил спину, ноги стали подгибаться, точно у старика.
Вернувшись на палубу, парень смыл с лица и рук чешую.
«Опять шкипер на грязную работу бросил, а сам чистеньким остался». Матрос озлоблено покосился на Разнополова, который был занят починкой двери кубрика — дверь рассохлась, сходила с петель.
Над плашкоутом закружила белокрылая, с серой грудью чайка. Неожиданно резко спикировала, подлетела к сохнущей синьге, клюнула ее, желая сорвать и унести в клюве.
— Зна-а-аем! — прокричала чайка.
Филипп поискал под ногами, выискивая, что бы бросить в нахальную птицу, ничего не нашел и замахнулся.
— Не тронь! — остановил Разнополов. — Чайку грешно обижать, за нанесенную обиду хлебнешь горя.
— А чего она хищничает? Не отгонишь — синьги лишимся.
— С голоду, видать, на синьгу позарилась, в Цимле нынче ее на поверхности не сыскать.
«Зачем про чаек всякие песни поют, особенно моряки? Жадные чайки, точно коршуны. Могут дохлой рыбой питаться, еще горазды на берегу чужие гнезда разорять», — подумал Филипп, вслух же произнес:
— Бесполезная птица, никакого от нее прока. В пищу употреблять нельзя, злости хватит на двоих, на таких даже патрона жалко.
— Не хули птицу, — потребовал шкипер. — В народе издавна бытует поверие: коль погиб рыбак иль матрос, душа его вмиг чайкой оборачивается. Молод критику наводить, как на человека, так и на тварь небесную.
Лодка вернулась порожняком на берег, где тлели огоньки сигарет, но стоило потемнеть небу, рыбаки ушли в дом.
Делать на палубе стало нечего. Филипп перебрал ногами ступеньки, опустился в тесный, с одним иллюминатором кубрик, где был наглухо прибит столик, две узкие лавки с мятыми постелями.
Разнополов сидел, придвинувшись к фонарю «летучая мышь», уставившись в засаленный обрывок районной газеты.
«B библиотеке бы над книгами корпел, а не в море ходил, другим жизнь портил нравоучениями! — Филипп прислушался к бьющим в борт волнам. — Еще один день осточертелой работы канул, пройдет неделя, дождусь получки и напишу заявление на расчет». Послушал бьющиеся волны, прилег, утопил голову в подушке и стал проваливаться в глубокую, бездонную яму, откуда выплыли Варя, словоохотливый рыжий рыбак и директор рыбзавода…
В а р я. Понимаю тебя, Филя. Раз работа — сплошная маета, уходи поскорей, найдешь поспокойней, с большим окладом и поближе к нашему Паньшино, чтоб надолго не расставаться. А пока не вступай в стычки — ты-то, знаю, человек тихий, а шкипер, как поняла из твоих писем, зверь зверем, вроде бешеного…
Д и р е к т о р. Заявление приму, но увольнять категорически отказываюсь. Вижу, что трудишься лучше всех в коллективе, а посему назначаю на место Разнополова, а его за вредность перевожу в матросы…
Р ы б а к. С таким, как нынче, уловом о премии думать не приходится, вместо премии получим кукиш в масле! Коль урежут получку, тогда хоть домой не возвращайся, чтоб жена скалкой по голове не дала! И не понять директору, что во всем виновата не погода, а Разнополов: от его злости и вредности рыба дурнеет, не желает в сети идти. Коль прогоните шкипера в шею, дело сразу улучшится, будем с перевыполнением плана, с премией…
Варя, директор с рыбаком сошлись во мнении, что благодаря способностям Лузикову Филиппу Ивановичу надо быть по меньшей мере заместителем директора. И еще что-то пожелали добавить, но наполз человек в фуфайке без пуговиц, из прорех выглядывали куски ваты. Человек заговорил скрипучим голосом Разнополова. Подмигнул выцветшим зрачком, приподнял левую бровь и злорадно изрек: «Не доросли и умом не вышли, чтоб на меня критику наводить. А матроса я утоплю, как кутенка, чтоб на мое место не зарился, а заодно директора на дно спущу! Что касается рыжего, то придушу, как куренка. Не советую поперек дороги становиться, палку в колеса ставить! Поверье есть: кто Разнополова хулит, косточки ему перемалывает, вмиг чайкой обернется! Чем языками понапрасну трепать, шли бы трюм задраивать. »
Ответа шкипер не дождался — трое промолчали, и тогда Разнонолов вскипел не на шутку, разразился громовым криком:
— Вставай! Нашел время храпака давать!
Филипп со сна больно ударился затылком о переборку, ошалело, еще ничего не понимая, уставился на шкипера.
— Ну? Иль уговаривать надо? — с не слышанной прежде Филиппом тревожной ноткой в хриплом голосе спросил Разнополов.
Парень собрался по привычке огрызнуться, напомнить, что свою вахту отстоял, имеет право спать, кричать на себя не позволит, но произнести ничего не успел: из открытого люка в кубрик хлынула забортная вода. Словно невиданный зверь, она сделала прыжок, ударила по столику, смахнула, точно слизала, миску с кружками, метнулась к лавке, подняла ботинки, лежащий на боку тотчас захлебнулся, второй поплыл к Разнополову, трясшему Филиппа за плечо.
— Не возись! Люк задраивай — одному несподручно! Зальет — как цуцики утопнем!
Крышка люка была плохо пригнана, отчего вода проникала в кубрик. С трудом поймав уплывший под лавку ботинок, Филипп выловил второй, натянул на ступни. В два прыжка оказался у лесенки, взлетел по ней, очутился на палубе и тут же в страхе отступил.
На плашкоут бежала большая — с трехэтажный дом, лохматая, похожая чем-то на ведьму с растрепанными пепельными патлами волна. Приближаясь, она стонала, а ударившись о борт, перевалилась через него и злорадно захохотала. Следом, горбясь и пенясь, спешила новая…
По Цимле шел шторм, прежде Филиппом не виданный, о котором слышал лишь рассказы бывалых рыбаков, старожилов прибрежных сел, хуторов. Умудренные жизнью рыбаки говорили про штормы с неохотой. Когда пытались втянуть в воспоминания о непогоде, мрачнели, отвечали односложно. Даже те, кто любил чесать языком — вроде рыжего рыбака — при расспросах о шторме переводили разговор на другую тему: «Ну, было дело — Цимлу словно наизнанку выворачивало, ветряк был — не приведи господи какой. Пару лодок разбило, еще тройку в море унесло. Берег подмыло — чуть до поселка вода не дошла. Да чего болтать? Приведется поболтаться в шторм, вкусить его под завязку, тоже не пожелаешь вспоминать…»
Филипп стоял на нижней ступеньке. Матрос точно одеревенел. Не было сил оторвать пальцы, вцепившиеся в косяк двери, отвести округлившиеся глаза от гудящего шторма: если бы Разнополов не оттащил парня, не тряхнул как следует, так бы и стоял, не шелохнувшись.
Матрос плюхнулся на лавку. Шкипер стал закрывать дверь, точнее, люк, чтобы очередные стремительно летящие хлопья воды не проникали в кубрик, где все трещало, в иллюминатор просачивалась вода. Справившись с люком, Разнополов провел рукавом фуфайки по взмокшему лбу.
— Чего в рыбпункте чешутся? Видят, чай, как нас болтает, иль им специального приказа надо? — спросил Филипп и получил ответ:
— Приказа не будет.
— Это как же? Бригада в тепле и сухоте храпака дает, а нас заливает! Покричать в две глотки, а не услышат — сигнал бедствия подать, ракетой стрельнуть.
— Не докричимся и сигнала не будет, — повторил шкипер. — Что касается ракеты, то ее в помине у нас не водилось, мы не военное судно, не корабль. Во-вторых, некому сигналить. В море нас унесло, а где точнее — утром, когда просветлеет, разберемся. Одно твердо знаю: вся надежда на плашкоут. Коль выдержит — спасемся, а пойдет ко дну, то и мы с тобой… — не договорил, закашлялся.
Филипп не мог поверить, точнее, не желал верить в то, что случилось. И что пока он отлеживал бока, плашкоут сорвало с якоря, унесло в Цимлу, и что легкое, несамоходное суденышко, давно требующее капитального ремонта в судоверфи, может развалиться…
Шторм продолжал гудеть, волны бились о плашкоут, пытаясь его перевернуть, поднимали на гребни, бросали в пропасть. Филипп крепко держался за край лавки. О чем-либо думать не мог — не первый час изнуряла, выворачивала наизнанку морская болезнь, которая кружила голову, к горлу подступала тошнота. Разнополов чувствовал себя куда лучше. Сидел напротив матроса, смотрел в черный круг иллюминатора и, казалось, дремал с открытыми глазами под сросшимися на переносице бровями. Когда Филиппу стало совсем невмоготу и он, шатаясь, переступил пару ступенек, чтоб выплюнуть то, что скопилось у горла, Разнополов спросил:
— Какое заявление? — не понял парень.
— На увольнение. Если решил твердо, не тяни, я в твои годы тоже вначале море проклял, на Каспии дело было. Лишь один сезон проплавал, все, казалось, не по мне. Вернулся в слободу, проработал на ферме с годик и на море потянуло, с той поры и вкалываю. А ты до конца дело доводи. Коль прикажут две недели отработать, мне скажи, я уж совру, что здоровьем слаб, качку не переносишь — воротит всего, рыбачить для тебя сполошная маета…
Разнополов достал из кармана пачку «Примы», отыскал среди сигарет сухую, но не закурил, увидев зеленое лицо Филиппа.
Неожиданно с грохотом распахнулась дверца и в кубрик ринулась новая волна. Не успела накрыть матроса, как шкипер резко метнулся к лесенке и закрыл дверь.
— Не волна, а чистый лешак! — то ли с восторгом, то ли с удивлением проговорил Разнополов. Снял фуфайку, отжал ее, затем присел к Филиппу.
— По всему, ищут нас, море обшаривают катерами. Не должны бросить в беде… Будь на плашкоуте рация, вышли бы в эфир и нас запеленговали. Впрочем, пеленгатора в совхозе отродясь не было и нет, да и не положена плашкоуту радиосвязь…
Шторм не утих и к утру. Волны по-прежнему лезли на суденышко, швыряли его, точно игрушку, в разные стороны, поднимали на гребни, бросали. Разнополов приблизился к иллюминатору и читал рваный кусок газеты, на этот раз вслух:
— «…В Забайкалье открыто новое месторождение меди. Там, где недавно был вбит первый колышек, стояли палатки геологов, ныне раскинулся поселок…»; «…Из Хиросимы, города-побратима Волгограда, вернулась делегация работников просвещения…»; «…Волгоградский элеватор в минувшем году принял рекордное количество зерна…»; «…Ha Мамаевом кургане альпинисты помогают в реставрации скульптуры «Мать-Родина»…»; «…Очередное повышение пенсий намечено на октябрь…»
Слушать бубнившего себе под нос шкипера было выше сил Филиппа.
— Ищут нас иль нет? Чего не чешутся? Иль им на нас наплевать? Списали, как тухлую рыбу?
— Ищут, непременно ищут, и найдут, — успокоил шкипер. — Не могут бросить в беде. Только разве в такую, как ныне, чертоскубину скоро отыскать? Мы вроде песчинки в горе песка иль капли в море, — и продолжил чтение: — «В павильоне выставки посетители видят новые модели белАЗов…»; «…Смертельный заряд — бомбу времен минувшей войны обнаружили в Городищенском районе…»; «…Продолжается прием излишков сельхозпродуктов…»
Читал Разнополов выборочно, исключал информации о трагедиях, катастрофах, наводнениях, пожарах, гибели на шоссе под колесами автомобилей, выбирал лишь добрые вести. Устав перекрикивать гул моря, сложил газету, придавил ее лампой.
— Гляну, что с грузом.
Шкипер обвязал себя у пояса веревкой, конец отдал матросу, дернул дверцу, но она не открылась, пришлось толкнуть плечом. Лишь только с матросом вылез на палубу, как перемахнувшая борт волна окатила обоих с головы до ног.
— Держись крепче! — приказал Разнополов и, поскользнувшись, упал. Еще немного — и откатившаяся в море волна утащила бы с собой, но шкипер успел схватиться за металлическую скобу. Сделал это вовремя, иначе, замешкайся, и очередная волна свалила бы с ног: надежды, что Филипп удержит страховочную веревку, не было.
Разнополов растянулся на палубе, подождал, когда новая волна пронесется над ним, резво вскочил и в два прыжка оказался у грузового трюма, нырнул в него. Обратно появился спустя минуту. Чуть приседая на шаткой палубе, вернулся к Филиппу, и тот прочел в глазах Разнополова недоброе.
Словно не слыша и не видя матроса, шкипер стал выламывать в надстройке доску. Когда та стала отходить, с силой рванул, оторвав с гвоздями, не глядя на матроса, приказал:
До трюма было с пяток шагов, но, чтобы одолеть их, следовало дождаться, когда волна опустит плашкоут, затем, не теряя драгоценных секунд, откатиться вниз. Или, размеряя каждый шаг, крадучись пройти по палубе до люка. Разнополов и за ним Филипп выбрали второе, но не успели сделать шаг, как одновременно поскользнулись, пришлось ползти.
Очутившись в трюме, Филипп сразу понял, отчего стало серым лицо шкипера: в носовой части плашкоута образовалась трещина, не то чтобы большая, но и не маленькая, из нее сочилась вода: ящики с корзинами потонули, лежащая в них рыба, наоборот, всплыла и, казалось, ожила — нижний ряд ящиков был под забортной водой.
Как у шкипера очутился в руке молоток, Филипп не понял, стал держать доску, пока Разнополов вбивал в нее гвозди, заделывая трещину. Когда течь прекратилась, Разнополов что-то невнятно проговорил (выругался? — подумал Филипп), помог матросу вылезти на палубу, вернуться в спасительный кубрик.
— Ждать, — сказал, как отрубил, шкипер.
Ждать… Это было единственное, что осталось двоим на плашкоуте. Ждать, когда поутихнет шторм, ждать, когда море успокоится, перестанет играть с несамоходным суденышком, ждать, когда придет спасительный катер и унесенных в Цимлу бедолаг заберет к себе на борт.
Плечи Филиппа дрогнули, затряслись, к дрожи присоединилось глухое рыдание, точнее, всхлипы. Матрос плакал, не стыдясь шкипера.
— Брось нервы распускать, — потребовал Разнополов. — Ты ж не баба. Утри нюни! — шкипер пошарил за спиной, желая отыскать тряпку, и нащупал сверток. Развернул подмокшую обертку и увидел отрез пестрого штапеля.
— Ва-а-ре это я, в Паньшино такое не достать, а в райцентре его завались… Думали расписаться, а теперь… — Филипп не договорил, вновь заплакал.
— Самое время осенью свадьбу играть. Я со своей Аграфеной тоже осенью расписывались в сельсовете, и первенец у нас тоже аккурат осенью народился. Сам с какого года?
— Весной из армии вернулся…
— Свадьбу в Калаче будете играть или у себя?
— В Паньшино, где родни много.
Разнополов пощупал отрез, оценил расцветку и завернул в газету, которая осталась сухой.
Пошли вторые сутки, как плашкоут носило по взбученной, точно взбесившейся Цимле. Двое в тесном кубрике устали ждать помощи, отчаялись дожить до появления спасителей. Безучастно сидели рядом, касаясь плечами; на матроса шкипер накинул одеяло, и Филипп перестал дрожать. Не признаваясь друг другу, оба простились с жизнью, появилось чувство безразличия ко всему, и к себе в первую очередь. Не спали, лишь ненадолго впадали в забытье.
— Слыш-ка! — неожиданно попросил Разнополов.
Филипп поднял голову и в гуле ветра, моря уловил пароходную сирену.
Двое прильнули к иллюминатору, затаили дыхание.
Вскоре, то исчезая в волнах, точно кланяясь им, то вставая на острый гребень, увидели до слез знакомый катер РТ-16, прозванный на рыбзаводе «Ритой».
Не сговариваясь, поднятые неведомо откуда взявшейся силой, Филипп и Разнополов выскочили на палубу, закричали что-то невразумительное.
Катер ответил гудками и тоже криком — слов было не разобрать из-за грохота и свиста, к тому же слова унес шквальный ветер. С катера бросили чалку с привязанным на конце тросом, на плашкоуте поймали чалку, вытянули трос. Филипп работал умелее и проворнее, чем всегда, за что получил от шкипера одобрительный кивок…
— Хватились вас и сразу поняли, что сорвало с якоря. Ночью, понятно, было напрасно искать — у вас-то даже фонаря дельного нет, а без него во марке ничего не увидать, пришлось ждать рассвета, — рассказывал капитан катера, наблюдая, как двое с жадностью, обжигая губы, пили горячий чай. — Не держите на нас зла: коль знали бы точно, куда унесло, нашли скорее, а так пришлось Цимлу чуть ли не по квадратам прочесывать. Порадую рыбзавод, что не утопли, плашкоут с уловом целы. Отсыпайтесь — это для вас лучше лучшего.
Разнополов стал расшнуровывать ботинки, но вдруг выпрямился, достал из-под фуфайки отрез штапеля, протянул Филиппу:
— Подмок материальчик, но это не беда: подсушишь и будет, как новенький, прямо из магазина.
Отрез штапеля бандеролью отправился в Паньшино, следом ушло письмо:
Здравствуй, Варя!
Прими подарок, надеюсь, понравится, придется в самый раз. А про то, что писал в прошлый раз — забудь: был не в настроении, написал черт те что, всякую ахинею. Увольняться раздумал и переходить на судоремонтный тоже.
Нынче у меня отгул — вроде отпуска на трое суток. А время горячее — путина идет, старики сказывают, что давно столько рыбы в Цимле не брали.
За то, что штапель чуть полинял, шибко не ругайся: держал в кубрике, и он возьми да подмокни. Шкипер передает привет.
Адрес мой прежний.
Твой Филипп Лузиков.
До Волги рукой подать
Улица Приволжская начинается у сквера с памятникам защитникам Сталинграда в дни обороны, в хорошую погоду близ монумента на лавке сражаются в шахматы пенсионеры. Заканчивается улица у Волги, последний дом № 30 смотрит окнами на реку. Отправляясь на рыбалку, мальчишки шутят:
— Потопали в «рыбный магазин».
На первом этаже дома проживают самые старые жильцы Мария Петровна и Макар Иванович Гвоздилины. Хозяйка к преклонным годам погрузнела, стала ходить переваливаясь, точно гусыня, тяжело дышать при ходьбе, постоянно сердиться на несознательных горожан и гостей города, мусорящих двор, улицу с набережной, отчего приходится дважды за день работать метлой. При знакомстве Мария Петровна называет себя не дворником, а работником горкомхоза.
В отличие от жены Макар Иванович поджарист, сутулится и прихрамывает — становится похож на вопросительный знак, редкие на затылке волосы зачесывает ко лбу. Служит на сезонной работе с весны до осени в том же горкомхозе весовщиком — на медицинских весах определяет вес желающих.
По мнению соседей, Гвоздилины живут как кошка с собакой.
— Скажи своим шахматистам, чтоб окурки за собой уносили! — требует Мария Петровна, вместо ответа муж принимается ругать:
— Осточертела твоя жадность с накопительством! Кулацкая натура — как не разглядел при женитьбе! И руки загребущие: все к себе гребешь! Вечно трясешься над деньгами.
— Не жадная, а бережливая — не соглашается старушка. — Дать тебе волю — без гроша останемся, зубы положим на полку.
— Кончится мое терпение, перееду к дочери с внуками и правнучкой, уж не выгонят, уделят уголок! — не успокаивается старик.
— Без тебя у Люси тесно, — напоминает Мария Петровна. — Где спать у них станешь? He в шкафу же.
Выведенный из себя старик бегает по комнате, на чем свет стоит ругает жену за скопидомство, когда силы отставляют, валится на стул, как попавшая из воды на сушу рыба, открывает рот. Опасаясь, что очередная перепалка закончится сердечным припадком, Мария Петровна старается потушить размолвку.
В начале каждого лета старушка отдает мужу паспорт, трудовую книжку и посылает в горкомхоз устраиваться на сезонную работу:
— Чем под ногами у меня крутиться, ссориться, мельтешить перед глазами, дыши свежим воздухом и приноси получку, а станешь выполнять план — и премиальные.
Макар Иванович плетется на прежнее место службы, вновь пишет заявление, получает напольные медицинские весы, чтобы близ набережной помогать желающим узнать свой вес.
— Мой-то — младший медицинский персонал, — хвастается соседям Мария Петровна и по вечерам забирает у мужа выручку, чтоб сдать в бухгалтерию.
— Не позорь на старости лет, сам отдам, — просит муж.
— Вышел из доверия, — отвечает жена. — Вспомни, как однажды потерял целых двести целковых, а другой раз совершил растрату, потратил казенные деньги на пиво.
— Лишь две десятки, — хмурится старик.
— А это разве не деньги? Кабы не покрыла растрату, сидеть в тюрьме. За тобой нужен глаз да глаз.
Зная строгий характер Марии Петровны, шахматисты на лавке называют ее «главным семейным ревизором», советуют весовщику не отдавать власть, не то жена сядет на голову.
Старик отмалчивается, и так бывает все лето до осени, когда кончается сезон туристов, начинают лить дожди и Макар Иванович сдает весы до следующего года.
В дни получения зарплаты мужа Мария Петровна становится благодушной, не пилит Макара Ивановича, покупает на ужин пару бутылок пива и себе лимонад, ставит на стол миску с пельменями, тарелку салата. Макар Иванович молча пьет, затем заводит разговор не о жене, а о клиентах:
— С каждым сезоном их меньше, пропадает любопытство узнать, на сколько погрузнели или похудели.
Осушив бутылки, вытирает губы и не в первый раз принимается печалиться, что слишком рано был отпущен с военной службы, послужи еще годик-второй и дослужился бы до капитана, а то и майора.
— При двух ранениях, где одно тяжелое, в армии не держат, — говорит жена. — Армии инвалиды ни к чему.
— Я не инвалид! — вскипает Макар Иванович. — Коль одна нога не сгибается, еще не инвалид!
Уходит спать, забыв просмотреть вечерние новости, долго лежит с открытыми глазами, утром мрачен, отказывается завтракать и в который раз заводит разговор о жадности:
— Зачем копишь? Почему дрожишь над каждой копейкой? В могилу с собой ничего не заберешь! Лучше бы собрала Люське с внуками и правнучкой посылку с вяленым рыбцом, чехонью, которых у них не сыскать. Пусть лакомятся и стыдятся, что к нам носа не кажут, лишь телеграммы шлют к праздникам. Может, совесть заговорит и приедут.
— В отпуск на море ездят, — оправдывает дочь с внуками и правнучкой старушка. — Под северными небесами, при долгой зимней ночи хочется погреться на солнышке, фруктов вдоволь поесть, искупаться.
— Разве у нас мало солнца? А яблок, арбузов с дынями, абрикосов — не счесть сколько!
Случается, что Макар Иванович устраивает забастовку:
— Ну их к лешему эти весы! Надоело выслушивать нарекания за невыполнение плана, нет в горкомхозе понятия, что день на день не приходится: в жару или в дождь никому нет дела до взвешивания.
Жалоб, претензий к начальству, погоде, нелюбопытным гражданам много, но Мария Петровна их не выслушивает, отдает пакет с вареными яйцами, кефиром и выпроваживает мужа из дома.
Собирающиеся на лавках пенсионеры завидуют Макару Ивановичу, считают, что его работа «не бей лежачего», пустяковая, на что Гвоздилин отвечает:
— Моя работа людям в радость, помогает вести контроль над личным весом, а значит, здоровьем. Скажем, погрузнел гражданин, набрал лишние килограммы и ходит смурной, а другой, наоборот, расстраивается по причине худобы, тут я прихожу на помощь.
— Это каким же манером?
Макар Иванович хитро улыбается:
— Желающим сбросить излишний жирок убавляю вес, и клиент рад-радешенек. У кого ребра торчат, живот к спине прилип, ноги с руками словно палки, прибавляю килограммчики — пусть ходит счастливым.
— Ну чистый дипломат! Послом тебе за границей работать!
Весовщик качает головой:
— Образования маловато — лишь восемь классов, по этой причине в войну оставался лейтенантом.
И в который раз Гвоздилин рассказывает о службе в саперных войсках, взятии в плен немецкого генерала, установку на Шпрее понтонов, за что представили к ордену, но наградные документы затерялись. Макара Ивановича выслушивают и не верят ни единому его слову, считают, что врет как по писаному, на что старик обижается, покидает ровесников, не допив кружку пива. Стоит прийти домой, как Мария Петровна сразу чует запах, принимается ругать за дружбу с алкоголиками, предрекает мужу мученическую смерть…
Очередной рабочий день был похож на все прежние: Гвоздилин наскоро позавтракал, отвез весы на аллею, сел на раскладной стульчик, стал подсчитывать, сколько дней до аванса, когда женится старший внук, привычно поругивал свою Машу за скопидомничество. «Старческое это у нее, прежде подобный грех не водился. Видать, на похороны копит, взяла пример с других старух, кто с пенсии откладывает на погребение…» — всмотревшись в жаркое небо, подумал, что в такую, как ныне, духоту у людей на уме одно — поскорее искупаться, а не узнать свой вес.
Клиентов не было, и старик уронил голову на грудь, задышал спокойно, чуть подсвистывая во сне… Проснулся точно от толчка и увидел рядом старушку неопределенных лет, в черных очках. Макар Иванович прогнал сонливость, приосанился, встал возле весов:
— Прошу-с! Становитесь, мигом определим вес с точностью до грамма!
Пожилая женщина пропустила приглашение мимо ушей, вкрадчиво спросила:
— Не признал, Макарушка? Неужели годы так изменили? А я сразу узнала: спал, как в сорок пятом перед Победой на польской станции — забыла ее имя.
— Радзвихил, — напомнил Макар Иванович.
— Точно, — обрадовалась старушка. — Весна уморила, положил голову мне на плечо и уснул, точно дитя, радуясь, что не стреляют, не бомбят.
— Тая? — Макар Иванович всмотрелся в женщину, в ее выцветшие зрачки, усталые от частого крашения волосы, где у корней пробивалась седина.
Макар Иванович проглотил подступивший к горлу комок:
— Крышу у той станции взрывом снесло, вокруг деревья обгорели, возле стрелки лежал убитый конь…
— Помнишь, а у меня память шалит, забываю, какую вчера передачу смотрела, чего на обед было. Сколько лет не виделись?
— Много, более полувека, — не стал уточнять Макар Иванович.
— Целую вечность, — согласилась Таисия. — Тебя первым домой отпустили, моя очередь пришла через пару месяцев, — не делая паузы спросила: — Сильно я постарела?
Не раздумывая, весовщик выпалил:
— Нисколечки! Ни капельки!
— Знаю, что давно не похожа на девчушку-санинструктора, какой была…
Некоторое время двое пристально, насколько позволяло зрение, разглядывали друг друга, пытаясь отыскать знакомые черты, которые хранила тускнеющая память. Первой заговорила Таисия:
— Сын с невесткой одарили путевкой, восьмой день плыву, скоро Астрахань. У вас решила вместо экскурсии одной побродить по городу, точно предчувствовала, что ожидает нечто радостное, и верно — улыбнулось счастье…
— А ты совсем не загорела, — отметил старик.
— Мне солнце противопоказано. Молодежь на верхней палубе загорает чуть ли не целые дни, а я в тенечке смотрю на плывущие берега, скучаю по внуку…
— У меня их трое — две девчонки с парнем, еще правнучка.
— Обогнал меня, всегда был шустрым в делах. Тогда ждала, что объяснишься, признаешься, как ко мне относишься, а ты все про мины, фугасы, как ставили понтоны, чинили мост. Удивлялась, когда только отдыхаешь? А ты: «Отдохну после победы». Спросила, ждет ли дома девушка?», но ты ушел от ответа.
— Везучим был — ни одна мина в руках не взорвалась, все пули мимо пролетели, лишь раз осколок задел весной сорок пятого… Помнится, родом из-под Херсона, как же очутился на Волге?
— Как комиссовали, демобилизовали, сразу поехал в свою Пятихатку. Иду к родному дому, а вместо него пепелище, цела лишь печная труба. мать померла при немцах, брат погиб под Мурманском, ну и подался в Херсон. Работал на судоремонтном, потом завербовался на строительство Волго-Донского, бригадирствовал, тогда и женился…
— Нога не беспокоит?
— Уж и забыл про осколок, — приврал старик. — А как повязку кладу, помню — век благодарить стану, что ногу сохранила, — помолчал, пожевал губами и признался, что старая рана ноет к непогоде.
— Нe я ногу спасла, а хирург.
— До госпиталя ты довезла.
— Лежал в кузове «студебекера», а на лице ни кровинки, шутил, чтоб боль пересилить, слабость не показать.
— Это точно, перед глазами все плыло, еще немного — и взвыл бы белугой.
— Кого из однополчан встречал?
— Ты первая за столько лет.
— Не ты, а я повстречала.
— Какое уж пение! — Таисия махнула рукой.
— Так пела же, мы, бывало, заслушивались, рты открывали, песнями за душу брала, все прочили быть актрисой, выступать в театре… — Макар не спускал повлажневшего взгляда с бывшей медсестры, видел ее в выгоревшей гимнастерке с фронтовыми зелеными погонами младшего сержанта, гвардейским знаком у кармашка, в сапогах. Перед Гвоздилиным стояла не располневшая женщина преклонных лет, а златокудрая Taя-певунья, на которую заглядывались все — от рядового до полковника и даже генерала.
И Таисия представила, что перед ней не лысоватый, с опавшими щеками, острыми скулами, с сеткой глубоких морщин сутулящийся старик, а молодцеватый лейтенант саперного батальона с тремя медалями и Красной Звездой, в лихо сдвинутой набок пилотке, невесть где раздобытых офицерских брюках с кантом, трофейных ботинках…
Двое у весов не замечали, что из ближайшего летнего кафе доносится музыка, мимо проходят горожане и экскурсанты, что солнце уселось в поднебесье и жарит в полную силу — Таисия и Макар Иванович видели, слышали лишь друг друга.
Макар Иванович со страхом ждал, что Таисия упрекнет за невыполнение данного при расставании обещания встретиться на родине, чтоб уже навсегда быть вместе, но Таисия жаловалась на не дающую уснуть в каюте слишком громкую музыку на палубе парохода, хвалилась, что удалось увидеть во время плавания:
— Каждый вечер кино показывают, но молодежь лишь на танцы ходит, по-ихнему, дискотеку, я больше на палубе сижу, закаты встречаю. Как купили путевку, вначале хотела отказаться — куда в мои-то годы в путешествие? Но сын, невестка и внук настояли; вернусь, поблагодарю, иначе бы тебя не встретила…
Макар Иванович согласно кивал, во всем соглашаясь, то и дело проводил ладонью по лицу, точно смахивал невидимую паутину, мешающую вспоминать былое или проверял, выросла ли щетина. Не выдержав, стал оправдываться:
— Искал я тебя, вот те крест, больше года. Первое письмо осталось без ответа, второе вернулось за отсутствием адресата. Решил, что напутал с адресом, вновь написал уже в адресный стол, не замедлили прислать на бланке письмо, что данная гражданка не проживает…
Таисия спросила, куда писал, оказалось, что письма, запрос уходили не в Читу, а в Челябинск. Таисия не сразу призналась, что, устав ждать письмо, написала сама в Пятихатку, пришел ответ из сельсовета, где говорилось, что указанный на конверте дом сгорел в войну.
— Верно отписали, — подтвердил Макар Иванович. — Меня на родине уже не было, уехал в новые края.
— На Яикову писал? — спросила Таисия, и Макар Иванович кивнул.
Старушка грустно улыбнулась:
— К тому времени отчаялась ждать встречи, дала согласие доброму человеку, фамилию сменила. Муж тоже воевал четыре года.
— Коль не потеряли бы друг друга, вышла за меня?
Таисия покачала головой:
— Поздно было заново строить жизнь, дите народилось, за подол держало.
Макар Иванович слушал и продолжал вспоминать, как Тая склонялась над ним в «студебекере», помогала не терять сознание, когда в госпитале вынесли приговор оставить раненого без ноги, иначе случится гангрена, заспорила с врачами, не позволила резать, убедила, что кость цела; и верно — спустя пару месяцев Макар с палочкой, но на своих двоих, делал первые шаги…
— Напугал меня, — точно подслушав мысли однополчанина, говорила Таисия. — Как узнал про ампутацию, потребовал дать револьвер: не хотел оставаться калекой. Еле успокоила, убедила что все образуется, а то, что рана болит, так на то оно и ранение — от греха подальше отдала револьвер главврачу…
Они простились ближе к вечеру, когда подошло время Таисии возвращаться на пароход. Макар Иванович переживал, что не может проводить — не на кого оставить казенное имущество, нельзя досрочно покидать рабочее место. Наотрез отказался от предложения шахматистов распить кружку пива и засеменил домой. Стоило переступить порог квартиры, как Мария Петровна насторожилась: муж был не похож на себя, таким грустным, задумчивым она видела его впервые. Старушка принюхалась, но от мужа не пахло пивом.
— Точно не в своей тарелке: солнце напекло, давление поднялось? Или старая рана дала о себе знать?
Макар Иванович уселся перед невключенным телевизором, уставился в темный экран и так сидел долго.
— Иди ужинать, — позвала жена.
Макар Иванович взорвался:
— Где прячешь сберкнижку, куда сховала? Зачем копишь? Жадность заела? Иль собираешь на похороны? Лично я умирать не планирую и тебе не советую! Первейшая ты скопидомка, не отыскать такую другую!
Напор напугал старушку, она отступила в кухню, где плюхнулась на табуретку, широко распахнутыми глазами глядя на выведенного из себя мужа.
— Пришел срок раскулачить! Больше не будешь рубль к рублику складывать! Завтра же закроешь счет, заберешь все до копейки и отошлешь Люське. Пусть станет стыдно и приедет!
Макар Иванович ринулся к гардеробу, разворошил стопку постельного белья, достал сберкнижку и открыл рот, да так и остался стоять — на счету Гвоздилиной была лишь незначительная сумма.
— Ну что, ирод, успокоился? — спросила Мария Петровна. — Перестанешь считать жадной, обзывать кулачкой. Не пропила, не проиграла. Люське с дочкой и внучкой деньги нужнее. Мы свое прожили, нам многого не надо, а им и на новую квартиру, и на отпуск. Извини, что не доложила, опасалась, что осерчаешь, скажешь: не балуй дочь, не нуждается она ни в чем.
Макар Иванович подошел к жене, положил ладонь на плечо, но Мария Петровна сбросила руку:
— Думал, стала скрягой вроде Плюшкина? А у меня, в отличие от тебя, душа болит за Люсю с внуками, особенно за правнучку. В кооператив дочь вступила, послала на очередной взнос — пусть не живут скученно в двух комнатушках. Тебе не доложила, чтоб голову не забивал хозяйскими делами. Знала, что не осудишь, нам-то деньги ни к чему, а Люсе с семейством в самый раз. Коль остыл, садись письмо сочинять.
Не дожидаясь согласия, старушка смахнула с обеденного стола крошки, принесла тетрадь, ручку.
— Зови в гости, почитай больше года не виделись.
— Работа их держит, отпуска дают в разное время года.
Макар Иванович уселся за стол, взял ручку.
— Напомни о приезде, нам-то с тобой к ним сложно ехать — дорога утомит, а то и уложит в больницу.
Макар Иванович вывел «Здравствуйте, наши дорогие!» и стал ожидать, что продиктует жена — сам был не мастак сочинять. Письмо на этот раз получилось не длинным и не коротким, в каждой строке сквозили тоска и одиночество.
Гроза проходит стороной
На сетку телеграфных проводов кто-то умудрился накинуть порожнюю жестяную банку на веревке. Ветер раскачивал провода, и банка тоскливо гудела. Под столбом копошился выводок кур с выдерганными хвостами, отчего птицы выглядели жалко.
«И мне крылья подрезали, а имел бы хвост — и его бы не оставили в целости», — невесело подумал Федор и зашел в райотдел милиции. Предъявил справку об освобождении, терпеливо выслушал советы майора завязать со старым, забыть о прежних замашках, взяться за ум, вступить на трудовую дорожку… Когда нравоучения надоели, перебил:
— Что было, то быльем поросло. За почти четыре года многое передумал, теперь стану держать в узде нервишки, не решать ссоры дракой, хлопот со мной не будет. Свое честно оттрубил, вот и вышел досрочно.
Майор пообещал в недельный срок оформить паспорт и отпустил с миром.
Вспомнив о гостинцах родным, Федор заглянул в продуктовый, приобрел два килограмма конфет, в универмаге — женскую кофту, косынку, шерстяные чулки и не завернул на автовокзал, а двинулся к развилке дорог.
До Хохоленка можно было дойти по грейдеру, затем лесом, где известна каждая тропа, поляна, тем самым сократить путь, но шла тихая осень: в березняке мокро, склизко, и Федор Рубцов стал ждать попутный транспорт. Выкурил пару сигарет, вспомнил, как этой дорогой уходил в армию, спустя три года возвращался домой, тем же летом под конвоем, в наручниках увозили к следователю.
На развилке присел на мшистый валун, вскоре появилась полуторка, которая шла не в Хохоленок, а в лесхоз. Федор перелез через борт, придавил узкую доску за кабиной, где возле водителя сидела пухлая, с сонными глазами девица.
Полчаса тряской поездки — и машина затормозила у семейки вязов. Не выключая мотора, водитель заглянул в кузов:
— Дальше на двоих добирайся, никуда не сворачивай и упрешься в Хохоленок.
— Я родом отсюда, — признался Федор и спрыгнул на колдобистую дорогу.
— Коль тутошний, оставляй десятку при себе, со своих калым не беру.
Федор проводил взглядом машину, обошел яму с дождевой водой, свернул к мохнатым кочкам, где розовела клюква. Где-то неподалеку жаловалась пеночка. С деревьев устало тек лист. Стоило налететь холодному ветру-листобою, деревья заскрипели, лес наполнился шорохами.
Парень шагал, топил ноги в бочажинах, дышал с удовольствием чистым, точно процеженным сквозь сито воздухом, в котором были запахи вялых листьев, древесной коры. На околице деревни замер. Появляться засветло не стоило — одни знакомые начали бы сочувствовать, даже жалеть, засыпать вопросами, другие молча здороваться, обстреливать из-за заборов любопытными взглядами, за спиной говорить невесть что, вспоминать, как Рубцов чуть не отправил Петра на тот свет из-за жгучей ревности.
Федор поискал более-менее сухую кочку, присел, всмотрелся в бездонное небо, и не будь ветра, пригрелся бы на солнце, задремал, но провалиться в сон не позволила девочка с перемазанными ягодами губами, в заштопанных на коленях чулках.
— За лешего приняла? — спросил Федор. — Ошиблась: рожек не имею, хвоста тоже, копытами не обзавелся.
— Копыта могли спрятать в ботинки, — заметила девочка, — хвост — в карман, он у леших короткий, как у козы.
— Неужели встречала лешего?
— Уж не Андрюхи ли Конова? — Федор удивился быстротечности времени: когда арестовали, дочь ровесника Андрея делала первые шаги.
— Мало сказать, в один класс ходили, на переменах синяки друг другу ставили, вместе служить уходили, — Федор встал, отряхнул брюки. — Пошли, не то папка с мамкой заждались.
— Они в район уехали, лишь завтра вернутся, меня на соседей оставили, а у них ребеночек меньше меня, надо пеленать, купать да кормить.
Двое двинулись к Хохоленку. Ветер гнал под ногами листья, путался в стволах, гудел в вершинах берез. С опозданием девочка угостила Федора тронутыми первым морозцем ягодами. За годы несвободы Рубцов позабыл, какая клюква на вкус, взял из лукошка горсть — и рот, десны, язык стянуло, так бывало в детстве, когда наедался ягодами от пуза, домой приносил полный кузовок, мать наполняла банки, ставила в холод, чтоб найденное в лесу сохранилось до сочельника.
Спускались сумерки. Под ноги легли тени.
— Беги дальше одна, — подтолкнул девочку Федор, когда впереди встали первые дома.
— Мы проживаем возле колодца, по соседству с тетей Груней, дядей Петей и Тусей.
Федор чуть не задохнулся: девочка назвала людей, по чьей вине и собственной глупости Федор получил срок. Груня была той, кто обещала ждать, кого приревновал, затеял драку с соперником, проломил тому голову. В колонии довольно часто думал, как Груня живет-может, отчего прислала одно-единственное короткое письмецо и умолкла, почему о девушке ничего не пишут мать с сестрой?
Миновав первые на окраине дома, круто свернул в проулок и оказался у пятистенка, где за забором торчали высохшие будыли подсолнуха, стоял шест с трухлявым скворечником, который Федор соорудил до ухода на армейскую службу.
Рубцов не успел обернуться, как на спине повисла и по-бабьи заголосила сестра.
— Ой, мамоньки! Мы же к зиме иль позже ждали! Вот маманя-то обрадуется!
— Хватить слезы лить, вернулся я, а ты… — голос у Федора дрогнул. — Досрочно отпустили, за примерное поведение. Мать дома?
— В коровнике на дойке. Твою карточку над кроватью повесила, перед сном долго смотрит, во сне порой с тобой разговаривает…
Федор поставил сестру на землю, вытер ей ладонью набухшие глаза, отметил, что Наташка-егоза заметно подросла — от былого подростка, пигалицы ничего не осталось.
«Ишь ты: глаза подводит, и веки с губами красит — чисто невеста. »
Конец ознакомительного фрагмента.
Оглавление
- От рассвета до рассвета. Рассказы повесть
Приведённый ознакомительный фрагмент книги Ушли, чтобы остаться предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.
Примечания
Униформист — в цирке одетый в форменные костюмы подсобный персонал, обслуживающий арену.
Форганг — занавес, отделяющий манеж от закулисья.
Шапито — разборное сооружение для цирковых представлений с манежем, местами для зрителей, фургонами для артистов.
Флик-фляк — вид акробатического прыжка.
Лонжа — приспособление, обеспечивающее безопасность артиста, страхующее при исполнении опасного трюка.
Антре — выход клоуна с самостоятельным номером, разговорной или пантомимической сценкой, вид цирковой драматургии.
Эквилибристика — вид циркового искусства, акробатические упражнения при неустойчивом положении тела с сохранением равновесия (напр. на канате, шаре, руках).
Икарийские игры — подбрасывание партнера ступнями поднятых ног. Элемент состязаний, проводившихся в Древней Греции.
Каучук — номер пластической акробатики, основанной на гибкости тела.
Берейтор — помощник дрессировщика; объездчик верховых лошадей.
Манипуляция — демонстрация фокусов с помощью одних рук, умение отвлекать внимание зрителей.